К этнической истории Русского Севера
чудь заволочская и славяне
В летописных известиях содержится только одно упоминание о дорусском населении Заволочья, включённое в этнографическое введение «Повести временных лет» при перечислении «всех языцей Афетовой части»: «...меря, мурома, весь, мордва, заволочская чудь, пермь, печера, ямь, угра...». Эта вставка была сделана около тысяча сто тринадцатого года при составлении первой редакции свода, причём сведения историко-этнографического характера восходят, предположительно, к более раннему источнику.
Рассматриваемая «чудь» локализована летописью «за Волоком», в землях, располагавшихся на путях славянского освоения Русского Севера. Историко-географическое понятие этого термина трактуется по-разному. Барсов относил к Заволочью бассейн Онеги, Северной Двины, Мезени и Печоры. По мнению Ключевского, волость Заволочье «находилась за волоком, обширным водоразделом, отделяющим бассейны Онеги и Северной Двины от бассейна Волги». В историко-географическом исследовании Насонова под Заволочьем подразумевается только территория, включающая бассейн Северной Двины; при этом не исключается возможность её отождествления с известной по более поздним источникам Важской областью.
В последнее время этот вопрос специально рассматривался Васильевым, предпринявшим попытку проследить динамику изменения понятия «Заволочье» во времени. По его наблюдению, в одиннадцатом—тринадцатом веках этим термином обозначалась только новгородская волость, охватывающая бассейн реки Ваги. В последующий период (тринадцатом—четырнадцатом веках) понятие «Заволочье» приобрело расширительное значение, распространившись на Нижнее Подвинье — собственно Двину или Двинскую землю. В четырнадцатом—пятнадцатом веках термины «Заволочье» и «Двина» нередко заменяют друг друга, обозначая Двинскую и Важскую земли вместе. Наконец, после присоединения Новгорода к Москве понятие «Заволочье» становится ещё более обширным, охватывая Прионежье, Двину и территории к востоку от Двины до реки Печоры.
Таким образом, историко-географические разработки позволяют локализовать древнерусское «Заволочье» прежде всего в западной части бассейна Северной Двины, причём для одиннадцатого—тринадцатого веков вероятна его взаимосвязь с областью по течению Ваги и её притоков, для четырнадцатого—пятнадцатого веков — с Поважьем и Нижним Подвиньем. Реконструируемая по этим данным зона обитания чуди заволочской, разумеется, не исключает возможности того, что это население проживало и на прилегающих территориях.
Вопрос об этническом характере заволочской чуди затрагивался во многих исследованиях. По мнению ряда авторов, это наименование имеет исключительно собирательное значение, географического происхождения. Вместе с тем ещё в середине девятнадцатого века наметилась тенденция к более определённой этнической атрибуции загадочной чуди. Так, Кастрен, исходя из характера финских заимствований в северных поморских диалектах русского языка и особенностей местной топонимики, высказал предположение о прибалтийско-финской принадлежности аборигенов края. При этом он по-разному оценивал её племенное происхождение, то отождествляя с летописной весью, то отделяя её от последней или же связывая с древней корелой. Родственную связь рассматриваемой чуди с финно-угорским населением Прионежья и «чухарями» Тихвинского и западной части Белозерского уездов, то есть с вепсами, признавал в ранних работах Европеус. Позднее, правда, этот основоположник «угорской теории» включил Заволочье в зону расселения древних угров.
По мнению Зеленина, заволочской чудью чаще всего в древности называли карелов, однако вследствие полугеографического значения термина под ним могли скрываться и предки коми-зырян, и некоторые угорские народы. В развёрнутом виде обоснование прибалтийско-финской принадлежности населения Заволочья приведено в работе Бубриха, считавшего, что в языковом отношении это была весь, заселившая Двинскую землю ещё до русской, новгородской колонизации; только низовье Северной Двины осваивалось карелами, но и то в значительно более поздний период.
Положение о прибалтийско-финском (весском или карело-весском) характере дославянских обитателей Заволочья получило признание и в последующих лингвистических исследованиях, основанных на материалах субстратной топонимики. «Сейчас мы уже не сомневаемся в том, — констатировал, в частности, Туркин, что населявшая бассейн Северной Двины и Мезени заволочская чудь состояла в основном из племён вепсов и отчасти карел». С весью, вепсами и карелами связывает прибалтийско-финский компонент в составе чуди заволочской Серебренников. Сходное мнение высказывал и Попов, считая, однако, что исчезнувший чудский язык вряд ли можно прямолинейно отождествлять с ныне существующими западнофинскими диалектами. «Топонимика, — подчёркивал он, — свидетельствует о принадлежности заволочской чуди к прибалтийско-финской группе с языковыми отличиями от карел, а отчасти и от вепсов».
В пользу того, что по крайней мере часть обитателей Заволочья имела прибалтийско-финское происхождение, свидетельствует и сам термин «чудь». «Этим именем, — отмечал Попов, — новгородцы и вообще восточные славяне называли по преимуществу эстов, но часто и многие прибалтийско-финские племена, близкие к эстам по языку... Нередко такое словоупотребление имело действительное обоснование, так как в Заволочье и далее к востоку имелось немало следов деятельности финно-угорских племён, в том числе и прибалтийско-финских, то есть «чуди» в собственном смысле слова».
Иной круг источников для доказательства весской принадлежности населения Заволочья был использован Пименовым, проанализировавшим фольклорный пласт преданий о чуди, распространённых на Русском Севере. Основные аргументы в пользу родства этих группировок сводятся к следующему:
Первое. Ареал преданий о чуди, отражающих контакты финно-угорского населения с русскими и лопарями, охватывает как бассейн Северной Двины, так и Ладожско-Онежское межозёрье, занятое в древности весью; такие предания зафиксированы и в современной вепсской среде. «Есть только один народ, который в целом считает себя идентичным чуди, отождествляет себя с чудью, говорит о чуди как о своих собственных предках. Это — вепсы».
Второе. Вепсские параллели прослеживаются и по тем немногочисленным бытовым подробностям, которые можно извлечь из преданий. Так, представления о чуди, будто бы жившей в ямах, «несомненно нужно поставить в связь» с тем, что у вепсов и южных карел-ливвиков широко бытовала промысловая избушка в виде полуземлянки.
Третье. Хозяйство легендарной чуди вполне сопоставимо с экономическим укладом, выявляемым на материалах вепских курганов Приладожья.
Четвёртое. Рисуемый в преданиях антропологический тип «чуди белоглазой» сходен с вепсами и карелами. К тому же этот фольклорный эпитет употребляется русским населением применительно к вепсам и некоторым близким им группам южных карел.
Пятое. Хотя язык чуди и не сохранился, данные топонимики свидетельствуют о прибалтийско-финской, древневепсской принадлежности его носителей.
Указанные черты сходства при ареальных совпадениях источников преданий с зонами расселения чуди и веси являются, по Пименову, свидетельством происхождения заволочской чуди от одного этнического корня — древних вепсов. Их начальное продвижение в некоторые районы Заволочья автор предположительно относит ко времени не позднее рубежа восьмого—девятого веков. В средневековую эпоху «чудь не представляла собой единого этнического массива, а жила небольшими гнёздами, тяготевшими к водным путям сообщений». При этом подразумевается, что до появления новопоселенцев территория была пустынной и здесь могли проживать лишь редкие группы кочующих саамов.
Разработки Пименова, показавшие источниковедческую значимость фольклорных источников для реконструкции картины расселения чуди и её взаимодействия с русскими и саамами, для воссоздания некоторых сторон быта и хозяйственной деятельности этого населения и даже его физического облика, в значительно меньшей степени, на наш взгляд, доказательны в решении этнокультурных вопросов. Большинство приведённых им свидетельств весско-чудского родства носят слишком общий характер или базируются на далеко не бесспорных параллелях.
Оригинальная этнолингвистическая концепция развития и смены языковых общностей создана на материалах субстратной топонимики Русского Севера Матвеевым. Им выделен мощный пласт гидронимов с формантом -ньга (-еньга), характеризующийся очень компактным ареалом, массовостью топонимического типа (несколько сот названий) и фонетической близостью топонимов, находящихся в пределах основного ареала. Гидронимы на -ньга сосредоточены «в треугольнике, образуемом Вагой, Северной Двиной и Сухоной, хотя встречаются и далее на востоке вплоть до пределов Коми АССР, а также на западе — в бассейне Онега, за которой исчезают».
Очерчиваемая зона плотного распространения данного топонимического пласта включает, таким образом, историческую область Заволочья с прилегающими территориями и, согласно Матвееву, документирует былое проживание в этом регионе чуди заволочской. Формант на -ньга (-еньга) лучше всего интерпретируется на прибалтийско-финской почве, где он увязывается с генетивной конструкцией. Его связь с прибалтийско-финскими языками доказывается также анализом топооснов, находящих многочисленные соответствия в языках прибалтийских финнов. Вместе с тем ряд топонимов на -ньга расшифровывается из марийского языка. Всё это, по мнению Матвеева, свидетельствует о том, что «язык чуди заволочской по своему словарному запасу значительно отличался от остальных прибалтийско-финских языков. Возможно, что он занимал как бы промежуточное положение между прибалтийско-финскими и волжско-финскими языками». Его носители, включённые автором наряду с другими ныне не существующими финно-угорскими обитателями Русского Севера в особую севернофинскую группу, были не непосредственными предшественниками карелов и вепсов, хотя и находились с ними в определённом родстве.
Вырисовывающаяся на материалах топонимики картина осложнена наличием в некоторых районах ещё одного топонимического пласта, перекрывающего севернофинский и предшествующего распространению здесь русских названий. Об этом свидетельствуют материалы микротопонимики, преимущественно наименования населённых пунктов и урочищ, образующие локальные, но плотные ареалы топонимов прибалтийско-финского происхождения. Последние близки языку названий на -ньга, но не тождественны ему. Матвеев связывает появление такой микротопонимики с последующим проникновением в Заволочье карело-финских племён, среди которых, возможно, были и «племена, говорившие на языках, промежуточных между карельским и вепсским или вообще неизвестных ныне прибалтийско-финских языках». Сгустки прибалтийско-финских названий различных топонимических типов зафиксированы в Белозерье, Приозёрном крае на юге Архангельской области, на побережье и островах Белого моря, Онежском полуострове и низовьях рек Онеги и Северной Двины, на нижней и средней Пинеге. Сходные наименования выделяются и в среднем течении Двины, включая бассейн Ваги, а также на средней Сухоне. Предполагается, что расселение разных этнических групп прибалтийских финнов в Заволочье происходило незадолго до русской колонизации, хотя новопоселенцы и успели создать на Севере свою специфическую топонимию. Очевидно, эти группы осваивали относительно небольшие участки территории, оседая отдельными гнёздами.
Несмотря на значительные различия в оценке языковой и этнической принадлежности дорусского населения Заволочья, основной вывод о его родстве или по крайней мере близости к прибалтийским финнам разделяется почти всеми современными исследователями. Последнее не исключает присутствия в том же регионе иных этнических групп — саамов, волжских финнов и древних пермян.
Особую сложность представляет вопрос о соотношении летописной чуди с пермскими племенами и присутствии пермского этнического элемента в западной (левобережной) части Подвинья. Лингвистические данные показывают, что в северо-юго-западных диалектах коми языка имеется более семидесяти прибалтийско-финских слов, рассматривающихся в качестве древних заимствований из языка чуди заволочской. Почти полное отсутствие таких заимствований в языке коми-пермяков свидетельствует об их усвоении западными группами пермян уже после дифференциации былой общности. Туркин относит время этих контактов к десятому—четырнадцатому векам и связывает их с взаимодействием предков коми-зырян и заволочской чуди в правобережной части Двинского бассейна (Вычегда, Вымь, Сысола, Луза), то есть в землях, расположенных к востоку от исторической области Заволочье. Матвеев, первоначально высказывавший довольно оптимистические заключения о наличии древнепермского топонимического пласта в Заволочье, позднее склонился к иному мнению. Согласно его последующим наблюдениям, в период русской колонизации предки коми-зырян обитали только в восточной части Подвинья, и прежде всего на Пинеге, но, очевидно, не сплошной массой, а отдельными поселениями — волостями. «Вопрос о существовании пермских элементов в левобережье Северной Двины, — отмечал он, — остаётся открытым. Явных доказательств этого нет». Разработки Власовой, основанные, правда, на довольно позднем актовом материале, также показывают, что зона расселения пермян на западе достигла только верховьев Двины и бассейна реки Юг.
В связи с этим представляются интересными данные о расселении «тоймы» («тоймичей»), связываемой исследователями с пермским языковым массивом или же рассматриваемой в качестве пермской по основному компоненту группировки, но сложившейся на местной допермской основе и впитавшей большую примесь прибалтийско-финского этнического элемента. О её локализации свидетельствует содержащийся в «Слове о погибели Русской земли» тринадцатого века перечень языческих земель, подвластных христианам и достигавших на востоке «Устьюга, где бяхо тамо тоймичи погании». Племенной этноним имеет прямое соответствие в наименовании рек Верхней и Нижней Тоймы, впадающих с востока в Северную Двину. Судя по этим данным, тойма «была достаточно значительным по размерам племенем, сидевшим недалеко от Устюга, то есть на Северной Двине», в нижнем и, возможно, среднем её течениях. Признание пермской принадлежности «тоймичей» позволяет предполагать расселение древних пермян до восточного побережья Двины и их проживания на пограничье с Заволочьем.
В некоторых работах отстаивается мнение о ещё более значительном продвижении пермских племён в девятом—четырнадцатом веках на запад. Так, Жеребцов включает в их ареал обширные пространства левобережья Двинского бассейна. Очерчиваемая им западная граница проходит по среднему течению Сухоны выше города Тотьмы, левобережью нижней и средней Ваги примерно до города Шенкурска и далее поворачивает на восток. В результате в пермский ареал оказывается включённой часть Важской области, к которой и применялся в одиннадцатом—тринадцатом веках сам термин «Заволочье» и с которой следует прежде всего связывать летописную чудь заволочскую.
На наш взгляд, вывод о широком распространении древних пермян в левобережье Двинского бассейна нуждается в дополнительном обосновании. Жеребцов в своих построениях придерживается ретроспективного метода, используя для реконструкции западных ареальных границ предков коми девятого—четырнадцатого веков источники значительно более позднего времени (в основном писцовые и переписные книги семнадцатого—восемнадцатого веков), а также этнографические материалы, коррелируя их с данными субстратной топонимики, вопрос о пермской принадлежности которых, как отмечалось выше, остаётся открытым. Что касается поздних исторических документов, то далеко не всегда в них зафиксирован собственно пермский адрес обитателей западной части Подвинья. К тому же самим автором на богатом письменном материале семнадцатого—восемнадцатого веков убедительно показано продолжавшееся в это время переселение различных этнических коллективов, например, коми-зырян, хантов и манси — на верхнюю Печору. Нельзя исключать того, что такие относительно поздние миграции осуществлялись коми-зырянами и в западном направлении. Вместе с тем вполне вероятно, что на левобережье Двины действительно проникали отдельные группы древних пермян. В пользу такого предположения свидетельствует как их намечающееся расселение вплоть до течения самой реки, так и общая этноисторическая ситуация конца первого—начала второго тысячелетия нашей эры на восточноевропейском Севере, характеризующаяся активными миграциями различных племенных групп.
Сложность изучения проблемы чуди заволочской обусловлена слабой изученностью археологических памятников Подвинья. При этом древности первого тысячелетия нашей эры, относящиеся к эпохе, предшествующей включению региона в систему связей с русскими землями, остаются по существу неизвестными. Последнее обстоятельство объясняется как крайней разреженностью заселения и малочисленностью популяций, рассеянных на обширных пространствах, так и вполне вероятной невыразительностью бедных металлом комплексов раннего средневековья, не позволяющих отделить их от более ранних древностей эпохи железа. Лишь с одиннадцатого века здесь выявляются немногочисленные чудские памятники, в сложной по составу культуре которых отразилась история населения Заволочья, постепенно втягивающегося в многообразные связи с Русью. В связи с этим и этнокультурная интерпретация известных к настоящему времени материалов одиннадцатого—четырнадцатого веков возможна лишь в общем контексте с процессом древнерусского освоения восточноевропейского Севера.
Вопросу о характере, путях и времени колонизационного процесса северорусских территорий посвящено большое число исторических и историко-географических исследований. Установлено, что активная роль в освоении внутренних районов Русского Севера принадлежала потокам, шедшим через Новгородскую землю и Ростово-Суздальское, позднее Владимирское княжество и известным под названием «новгородской» и «низовской» колонизации.
Скудность письменных известий о ранних этапах колонизации определила многозначность трактовок этого явления, среди которых намечаются две основные тенденции. Согласно одной из них, восходящей к работам Ключевского, Платонова и разделяемой многими современными исследователями, в десятом—тринадцатом веках имело место взрывообразное освоение северных районов древнерусским населением. По мнению других авторов (Ефименко, Кизиветтер и другие), колонизационное движение в это время ограничивалось серией военных походов, целью которых являлись покорение и обложение данью местных племён. Эта точка зрения во многом созвучна положениям, развитым в историко-географической работе Насонова, согласно которым древнерусское освоение края сводилось прежде всего к распространению даней среди старожильческого населения. В большинстве же работ, как правило, признаётся сочетание обеих моделей колонизации при различной оценке их соотношения.
По широко представленному в литературе мнению древнейшей зоной западного освоения являлись низовья Северной Двины. Оно основано прежде всего на отождествлении этого района с Бьярмией скандинавских источников, упоминаемой с конца девятого века; приведённое в нескольких сагах название бьярмийской реки «Вина» и производные от данного гидронима наименования сопоставляются с Северной Двиной, «Двинским лесом» и устьем Двины. В задачи данной статьи не входит специальное рассмотрение традиционной в отечественной и зарубежной историографии проблемы локализации Бьярмии, сведения о которой нередко носят легендарный характер. В суммарном своём виде простирающийся до северного океана Бьярманланд саг «составляет, по существу, продолжение зоны географической неопределённости, словно гигантским кольцом охватывающей Гарды, Русь». Неясной остаётся и этническая принадлежность самих бьярмийцев — народа, по-видимому, финноязычного происхождения, в котором разные исследователи, исходя из общеисторических построений, усматривают карелов, вепсов или чудь заволочскую.
В разработках последнего времени приведены доказательства в пользу того, что Бьярмия в узком понимании этого термина соответствует западной половине Беломорья, заключённой между реками Онегой и Варзугой на юге Кольского полуострова, и нижнему течению Двины. Наличие традиционных связей между областью «Тре» на юге Кольского полуострова и Двинской землёй подтверждаются письменными источниками тринадцатого—шестнадцатого веков и материалами могильников двенадцатого—тринадцатого веков в бассейне Варзуги, которые обнаруживают заметную культурную близость с синхронными древностями Поважья в среднем течении Двины. К сожалению, в археологическом отношении Нижнее Подвинье остаётся пока по существу «белым пятном», вследствие чего вполне вероятное предположение о проникновении сюда западных данщиков и купцов ещё в конце первого—начале второго тысячелетия нашей эры сохраняет свою гипотетичность.
Древнейшим историческим документом, фиксирующим распространение новгородского влияния на Заволочье, является грамота Святослава Ольговича тысяча сто тридцать седьмого года об отчислении в пользу церкви святой Софии в Новгороде даней, собираемых на территории от Ладожского озера до устьев Онеги и Двины. При этом грамота отражает традицию, установленную ещё «при дедах и прадедах» и восходящую по меньшей мере ко времени основателя святой Софии — Владимира Ярославича. Очевидно, на раннем этапе наиболее активная роль принадлежала Ладоге — крупнейшему торгово-ремесленному поселению, занимавшему с восьмого—девятого веков исключительно важное положение на перекрёстке водных путей того времени. Это, в свою очередь, позволяет говорить об общерусском характере начальной колонизации Севера (ещё в одиннадцатом веке Ладога находилась в непосредственном подчинении Киеву).
Направление, по которому шло распространение ладожско-новгородской дани, восстанавливается по погостам, отмеченным в грамоте Святослава. Последние вытянуты длинной лентой вдоль пути от Онежского озера к реке Онеге в сторону пути в Вельско-Важский край. Первый, по-видимому основной, путь от Онежского озера лежал по реке Водле и через волок и систему озёр Волошево (или Волоцкое) и Кенозеро выходил на реку Онегу. Ещё один путь шёл по реке Вытегре, впадающей в Онежское озеро, затем волоком на озеро Лача и оттуда к Каргополю на Онегу. С Онеги по притоку реке Моше, верховья которой сближаются с рекой Велью, через волок можно было попасть в бассейн реки Ваги. Именно здесь располагалось становище, упомянутое в грамоте тысяча сто сорок седьмого года: «на Волоце в Моше».
Второе ответвление начиналось ниже по течению Онеги, где использовался волок к реке Емце, впадающей в Северную Двину; этот путь фиксирован пунктом в устье Емцы. Наконец, следуя к устью Онеги, осуществляли выход к побережью Белого моря.
В перечне становищ двенадцатого века наиболее легко локализуются пункты, топографически привязанные к течениям рек: на устье Ваги, Пуи («Пуйте»), Вели, Пинеги и Тоймы. Ряд местностей расшифровывается по сохранившимся топонимам; это Ракула в нижнем течении Двины, Кегрола и, возможно, «у Вихтуя» на средней Пинеге. В целом, если исходить из списка местностей с чёткой географической привязкой, северо-восточные пределы новгородского освоения того времени ограничивались с востока Двиной с её правыми притоками Пинегой и Тоймой, а с юго-востока — Сухоной.
Из текста источника остаётся неясным сам характер пунктов, в которых собирались дани. Это могли быть и общины, названные по именам своих старейшин, и территориальные единицы, и населённые пункты, куда являлись данщики, и, наконец, в отдельных случаях места остановок, пристани, где традиционно происходили контакты новгородцев с местным населением. Тот факт, что некоторые из них явно носят нерусские названия, свидетельствует о формировании древнейших податных единиц территорий — «землевладений», по определению Овсянникова, на базе территориально-административного деления местного финно-угорского населения.
С середины двенадцатого века в летописях появляются первые упоминания о действиях ростовских князей, связанные с Заволочьем. В тысяча сто семьдесят восьмом году в низовьях Сухоны при впадении в неё реки Юг был заложен форпост низовской колонизации Великий Устюг. По-видимому, во второй половине двенадцатого века происходит раздел Заволочья на две зоны освоения: западную — новгородскую и восточную — верхневолжскую. Граница между ними проходила приблизительно с северо-запада на юго-восток, пересекая Северную Двину при впадении в неё Пинеги.
Археологические материалы, документирующие начальный процесс древнерусского освоения рассматриваемой территории, незначительны. В бассейне Двины и Ваги собственно славянских поселений и могильников одиннадцатого—тринадцатого веков пока не выявлено, а довольно многочисленные городища этого региона относятся уже к последующему периоду (четырнадцатому—пятнадцатому векам), представляя сельские укреплённые центры феодальных вотчин.
Существенную информацию о путях освоения Заволочья содержат находки монетных и денежно-вещевых кладов, этническая принадлежность которых, правда, как правило, не поддаётся определению. Более всего обеспечена такого рода материалами западная часть водных магистралей, по которым осуществлялись связи ладожан и новгородцев с Подвиньем — на отрезке от реки Свири до Водлозера. Серия кладов, обнаруженных на Свири, принадлежит к одиннадцатому—началу двенадцатого веков, древнейший из них (Свирьстрой-один) датируется по младшим монетам тысяча пятнадцатым—тысяча двадцатым годами. В одиннадцатом—двенадцатом веках денежные клады оседают в Северном Прионежье. К периоду после тысяча шестьдесят восьмого года относится клад на озере Куштозеро (водораздел бассейнов Онежского и Белого озёр).
Материалы могильников и поселений, тяготеющих к западной части пути, позволяют предполагать его освоение в ещё более раннее время. Так, на Свири известны пять курганных групп, древнейшие из которых датируются десятым веком. Их особенностью является обилие в инвентаре атрибутов военно-купеческого сословия. Отдельные могильники десятого—одиннадцатого веков, связанные в культурном отношении с Юго-Восточным Приладожьем, зафиксированы в Северном Прионежье. В верхнем слое селища Суна шесть (Северо-Западное Обонежье) представлены керамика и вещевые находки, имеющие аналогии в курганных древностях Приладожья десятого—начала одиннадцатого веков. Проникновение характерных типов приладожских изделий и керамических форм десятого—одиннадцатого веков фиксируется и на селищах, расположенных в юго-восточном Прионежье. Наконец, показательно наличие средневековой лепной посуды, напоминающей керамику из приладожских курганов, на селищах Водлозера. Последний факт дополняется открытием на стоянке Илекса три (Водлозеро) вещевого клада десятого—одиннадцатого веков с типично приладожскими изделиями. Таким образом, археологически подтверждается реконструируемое по историческим данным раннее проникновение обитателей Приладожья, традиционно связанных с древней Ладогой, в Заонежье и бассейн реки Водлы.
Между Заонежьем и Подвиньем нумизматические находки неизвестны. Однако показательно их наличие в бассейне самой Двины — у села Благовещенское на реке Устья при впадении в неё реки Кокшеньги (дата зарытия около тысяча тридцатого года), в Стрелецкой слободе (междуречье Ваги и Сухоны) — серия монет Этельреда Второго (девятьсот семьдесят девятого—тысяча шестнадцатого годов) и в окрестностях Великого Устюга. Несмотря на малочисленность этих находок, они позволяют предполагать, что западная часть Подвинья не позднее первой половины одиннадцатого века уже входила в сферу западной торговли с Пермью, осуществлявшейся по Сухоно-Вычегодскому пути с его вероятными ответвлениями на север. Несомненна прямая или косвенная связь этого явления с начальным новгородским освоением Заволочья.
К более позднему времени относится вещевой клад у деревни Алферовской в верхнем течении реки Устьи. Состав находок, датированных Спицыным тринадцатым—четырнадцатым веками, свидетельствует о принадлежности клада торговцу — выходцу из Северо-Восточной Руси. Последний факт согласуется с тем обстоятельством, что бассейн реки Устьи входил в зону верхневолжского освоения, а в четырнадцатом—пятнадцатом веках верховья реки традиционно считались «Ростовщиной».
Рассмотренные данные лишь косвенно отражают включение Заволочья в орбиту древнерусского влияния. В значительно большей степени этот процесс выявляется на материалах финно-угорских могильников, кладах вещей и отдельных находках финского характера, анализ которых позволяет осветить и своеобразие культурных традиций местного населения.
Археологические данные об этнокультурной ситуации в Заволочье.
Первые находки средневековых древностей в Онежско-Двинском междуречье и западной части Подвинья были сделаны ещё в конце девятнадцатого—начале двадцатого веков, но они по существу не учитывались. Не привлекли должного внимания и материалы первых раскопок чудских могильников, осуществлённых в тысяча девятьсот двадцатых годах Черницыным в междуречье Ваги и Сухоны и на Кокшеньге. Лишь с возобновлением археологических работ в западной части Двинского бассейна в тысяча девятьсот семидесятых—тысяча девятьсот восьмидесятых годах этот важнейший и качественно новый вид источников начал использоваться для разработок историко-культурных и этнических вопросов.
Полоса к востоку от течения Онеги и в настоящее время почти лишена археологических находок. На территории, ограниченной течением Двины, Ваги и Сухоны и составляющей искомую зону загадочной чуди заволочской, выделяются три скопления памятников с финно-угорскими древностями: в среднем течении Ваги, в междуречье верхней Ваги и средней Сухоны, в среднем течении Кокшеньги — правого притока Ваги. Кроме того, единичные археологические объекты выявлены в прилегающих районах — верховьях Моши, притока Онеги, сближающейся своими верховьями с левыми притоками Ваги, и на Пинеге. Исходя из территориальной разобщённости известных памятников и их культурной разнородности, правомерно их рассмотрение по намечающимся отдельным регионам.
1. Среднее течение реки Ваги. Происходящие отсюда древности представлены отдельными находками и кладами чудских вещей, из которых наиболее известна богатая коллекция украшений одиннадцатого—тринадцатого веков, обнаруженная у села Воскресенского, близ впадения в Вагу её правого притока реки Устьи. Характер последнего объекта остаётся неясным; по мнению Спицына, обнаруженные в нём вещи происходят, скорее всего, из могильника, если только это был не клад.
В последние десятилетия Овсянниковым и Назаренко осуществлены стационарные раскопки могильников среднего Поважья — у деревни Корбала, в устье реки Пуи и у села Благовещенского, на стрелке рек Ваги и Устьи. Основные результаты этих работ уже получили освещение в археологической литературе.
Погребальный обряд региона характеризуется распространением захоронений в срубных конструкциях, впущенных в могильные ямы прямоугольной формы. На раннем этапе (одиннадцатом—начале двенадцатого веков) фиксируется практика обрядов трупосожжения и трупоположения, в двенадцатом—тринадцатом веках происходит полный переход к ингумациям. Ориентировка умерших южная и юго-восточная, не ранее конца двенадцатого века появляются захоронения, обращённые головой на запад.
Срубные конструкции, столь типичные для Важского бассейна, обнаруживают известное сходство с деревянными сооружениями в могильниках прибалтийско-финского населения Северо-Западного и Восточного Приладожья. Одновенчатые срубы зафиксированы и в могильниках перми вычегодской, где они составляют свыше семи процентов исследованных комплексов. Их появление на древнепермской территории объясняется участием прибалтийско-финского компонента в формировании вымской культуры, причём могильники Ваги рассматриваются в качестве важного археологического звена, документирующего проникновение данной традиции в восточную часть Северодвинского бассейна.
Прибалтийско-финское происхождение срубных конструкций более чем вероятно. Вместе с тем нельзя не отметить своеобразия важских деревянных камер, сохранивших высоту до пяти венцов и перекрытых дерево-земляной кровлей. Очевидно, у некоторых групп чудского населения Заволочья в наиболее законченном виде была реализована общая для ряда финно-угорских племён идея воспроизведения во внутримогильных «домиках мёртвых» реальных жилых построек.
Совокупность вещевого материала одиннадцатого—четырнадцатого веков характеризует прежде всего положение Поважья в системе широтных этнокультурных контактов, осуществлявшихся в полосе от Приладожья до районов древнепермского расселения. Вместе с тем показательна локализация здесь целого ряда металлических изделий, пользовавшихся особой популярностью у прибалтийско-финских племён Приладожья и Белозерья, но отсутствующих или представленных лишь единичными экземплярами в памятниках вымской и родановской культур. Сходство с лепной посудой более западных чудских областей фиксируется и в керамическом материале, имеющем местное происхождение. Прибалтийско-финский компонент дополняется находками, не характерными для Ладожско-Онежского межозерья, но известными в Юго-Восточной Прибалтике, Финноскандии и Северо-Западном Приладожье. Несомненно, прав был Спицын, который, основываясь на коллекции древностей из села Воскресенского, писал, что средневековое население Ваги в культурном отношении было связано не столько с Камой, сколько с Западом.
В зону этнокультурного взаимодействия чуди Важского бассейна входили и некоторые волжско-финские группировки, обитавшие в основном к северу от Волги — в Ярославско-Костромском Поволжье и Ветлужско-Вятском междуречье. Это документировано ареальными границами бытования металлических изделий, характерных для древних марийцев и северо-восточной (костромской) группы мери, но одновременно наложившими заметное своеобразие на культуру рассматриваемого региона.
Бытование многих финно-угорских категорий инвентаря за пределами Поважья не исключает их органичного включения в состав местного убора. В многокомпонентной по составу культуре удаётся выделить элементы, отражающие локальные традиции дорусских обитателей средней Ваги (использование умбоновидных бляшек для украшения женской обуви; распространение подковообразных пряжек со слитыми головками; появление в конце двенадцатого—тринадцатом веках своеобразного головного убора из кожи или ткани с металлическими элементами орнаментации; использование выработанного типа височных украшений — лунничных серёг и других).
-
Междуречье средней Сухоны и верхней Ваги. Известные к настоящему времени грунтовые кладбища локализованы на довольно ограниченном участке к северу от города Тотьмы, в бассейне мелких рек — Единьги, притока Сухоны (Старовская Пустошь), Вожбалы, притока Царёвы, впадающей в Сухону (Кудринская) и Сондуги, правого притока Ваги в её верховьях (Марьинская, Семёновская); два могильника выявлены на Сухоне в окрестностях Тотьмы (Старототемский, Круглицкий). Начало их изучения положено в тысяча девятьсот двадцать четвёртом—тысяча девятьсот двадцать девятом годах Черницыным, в тысяча девятьсот семьдесят восьмом—тысяча девятьсот семьдесят девятом годах продолжено Гуслистовым.
Памятники расположены на прибрежных высоких холмах или же занимают склоны моренных гряд на некотором удалении от речных водоёмов. Отмечено наличие трупоположений, однако большинство исследованных погребений представлено трупосожжениями двенадцатого—четырнадцатого веков, совершёнными в ямах различной глубины и формы; имеются могилы чашевидных очертаний. Местной особенностью является покрытие ям каменными вымостками или забутовка валунами. Наряду с господствующей западной ориентировкой наблюдается спорадическое проявление юго-восточной ориентировки умерших. Многие погребения совершены в колодах, наблюдаются случаи покрытия костяков берестой, прослежены также подстилки из бересты, мха и хвои.
Каменные вымостки над могилами, отсутствующие в памятниках пермских племён, обнаруживают параллели с конструкциями древнекарельских кладбищ Северо-Западного Приладожья, а также в территориально близком к Двинскому бассейну могильнике Воезеро на реке Моше. Использование камней для покрытия поверхности земляных могильных насыпей отмечено также на реке Шексне, в Волго-Клязьминском междуречье, Ярославском и Костромском Поволжье — в памятниках с ярко выраженным мерянским (иногда мерянско-весским) культурным компонентом.
В материальной культуре ощущается сильное древнерусское влияние. С прибалтийско-финскими традициями можно сопоставить лишь проявление здесь единичных категорий древностей. Наиболее отчётливо прослеживается культурная близость региона с Костромским Поволжьем и марийским Ветлужско-Вятским междуречьем. При этом далеко не все сходные элементы могут объясняться проникновением волжско-финских форм на север. Такие характерные для междуречья Ваги и Сухоны украшения, как ложновитые и витые височные кольца, лунничные серьги, модификации зооморфных полых подвесок относятся к местному этноопределяющему убору. Сюда же следует причислить и представленные в захоронениях фибулы со слитыми головками.
3. Бассейн реки Кокшеньги. Древности региона представлены отдельными находками и кладами чудских вещей, а также серией грунтовых могильников двенадцатого—четырнадцатого веков, исследовавшихся Едемским, Черницыным и Гуслистовым.
В двенадцатом—четырнадцатом веках здесь фиксируется сосуществование обряда кремации на стороне и захоронений несожжённых тел. Кремированные останки с углём и золой погребального костра ссыпались в небольшие круглые ямки, имевшие незначительную глубину. Трупоположения совершались в довольно глубоких могилах, не имевших внешних признаков и погребальных конструкций. Неоднократно отмечались погребения в колодах, наряду с западной представлена юго-восточная ориентировка умерших.
Длительное бытование обряда кремации на соседних территориях наблюдается лишь у перми вычегодской, где на позднем этапе вымской культуры (двенадцатом—четырнадцатом веках) трупосожжения даже доминируют над обычным трупоположением. Однако местный обряд существенно отличается от вымско-вычегодского. В памятниках перми вычегодской кремированные останки помещались в могилы, по форме и размерам в целом аналогичные ямам, содержащим трупоположения. Небольшие круглые ямки с сожжениями на реке Кокшеньге, очевидно, отражают древнюю ритуальную традицию, свойственную некоторым прибалтийско-финским и волжскофинским племенам второй половины первого тысячелетия нашей эры, обитавшим к северу от Волги.
В материальной культуре региона наиболее отчётливо выражено влияние, шедшее из Новгородской земли. С северо-западным импульсом связаны такие популярные у населения бассейна Кокшеньги финно-угорские изделия, как полые коньковые подвески, превратившиеся в излюбленную разновидность местных украшений, бронзовые цилиндрические пронизки с рельефным узором и другие. К локальным этнокультурным элементам относятся витые височные кольца и фибулы с сомкнутыми головками.
Финно-угорские традиции в памятниках западного Подвинья значительно ослаблены древнерусским культурным воздействием. Многие чудские находки содержат информацию о направлении связей с соседними регионами и лишь в слабой степени могут быть использованы для этнических заключений. Тем не менее в сложной по составным компонентам культуре трёх региональных группировок запечатлены следы исторических реалий, заметно отличающихся друг от друга, но одновременно обладающих и чертами сходства.
Присутствие в материальной культуре некоторых изделий, бытовавших у древних пермян, всё же не даёт оснований для вывода о присутствии на рассматриваемой территории заметного пермского этнического элемента: все такие древности хорошо известны и в более западных регионах вплоть до Приладожья. Более показательно полное отсутствие в Заволочье округлодонной керамики, столь характерной для средневековых культур бассейна Камы и Вычегды. Существенные различия намечаются и при сопоставлении элементов погребального обряда.
Прибалтийско-финский компонент представлен в памятниках всех трёх территориальных скоплений памятников, но лишь в Важском бассейне он был явно преобладающим. Волжско-финские параллели связывают западное Подвинье с Костромским Поволжьем и Ветлужско-Вятским междуречьем — с северо-восточной группой мери и древними марийцами. При этом некоторые черты сходства имеют глубокие корни. Так, единое функциональное использование умбоновидных бляшек у чуди Заволочья и предков мари, не зарегистрированное у соседних прибалтийско-финских и пермских народов, вряд ли может быть объяснено лишь импортом самих изделий из Среднего Поволжья и их последующим изготовлением по привозным образцам.
Территориальные подразделения западного Подвинья сближаются по распространению в материальной культуре ряда этнически значимых элементов, ареал которых охватывает в основном Восточное Прионежье (Каргопольский край), Ярославско-Костромское и Марийское Поволжье. В отдельных случаях их появление обусловлено торговыми контактами, однако сам факт сложения местных этнографических черт дорусского населения Заволочья в условиях традиционного прибалтийско-волжского взаимодействия сомнений не вызывает.
Дополнительную информацию о культурном сходстве локальных подразделений Подвинья содержат некоторые безличные в этническом отношении разновидности древностей. Во всех территориальных группах памятников широко представлены шейные гривны. Вместе с тем в междуречье Сухоны и Ваги и на реке Кокшеньге полностью отсутствуют браслеты; на средней Ваге такие находки единичны, причём отмечены они лишь в наиболее ранних комплексах и имеют привносной характер. Первый признак резко отличает культуру Заволочья от культуры камско-вычегодских племён, в которой шейные гривны вообще не представлены. И наоборот, нераспространённость браслетов, достаточно характерных для более западных прибалтийско-финских (весских) группировок, сближает местный убор с одежным комплексом перми вычегодской.
Историко-культурная информация, полученная при анализе всей совокупности археологических источников, в целом согласуется с этнолингвистической концепцией, разработанной Матвеевым. Их сопоставление позволяет объяснить сложный конгломерат сходных и отличительных признаков, прослеживаемых в культуре территориальных подразделений Заволочья.
Основу дорусского населения западной части Подвинья составляла группа древних племён (севернофинская этноязыковая группа по Матвееву), занимавшая промежуточное положение между прибалтийско-финским и волжско-финским этническими массивами при большей близости к первому. Севернофинское наследие проявилось в формировании у обитателей Заволочья элементов убора, известных также у восточных подразделений прибалтийских финнов и в среде обитателей Заволжья; оно же наложило определённый отпечаток на своеобразие местных погребальных традиций. Вместе с тем археологические данные не дают основания предполагать существование здесь сколько-нибудь консолидированной северной «чудской» общности. Речь может идти лишь об отдельных и существенно отличающихся друг от друга группах родственного по происхождению автохтонного населения.
Ещё до начала древнерусского освоения края этническая ситуация претерпела существенные изменения, вызванные продвижением в Заволочье прибалтийско-финских групп. По наблюдениям Матвеева, микротопонимика, фиксирующая их появление, образует мозаичную картину и свидетельствует об оседании новопоселенцев отдельными гнёздами. В бассейне средней Ваги прибалтийско-финский суперстрат оказался в конечном итоге преобладающим; здесь прослеживаются лишь ослабленные черты поглощённого пришельцами севернофинского компонента. Обитатели Поважья были несомненно родственны более западным весско-карельским группировкам, хотя вследствие сложных ассимиляционных процессов и не могут отождествляться с последними.
Инфильтрация прибалтийских финнов на среднюю Сухону и в бассейн Кокшеньги была менее значительной. Здесь ещё в двенадцатом—четырнадцатом веках сохранялись самобытные островки севернофинского населения. Этим объясняется своеобразие местных традиций, отличающих обитателей обоих регионов от пермских, прибалтийско-финских и волжско-финских культурных групп.
Положение об особой, севернофинской, принадлежности южных подразделений чуди Подвинья позволяет, на наш взгляд, прояснить характер средневековых памятников, выявленных в долине реки Лузы (приток Сухоны в её нижнем течении) и связываемых с предками упоминаемой с пятнадцатого века лузской пермцы. Гуслистов, интерпретируя раскопанный им Марьинский могильник в междуречье Сухоны и верхней Ваги как памятник чуди заволочской, впервые обратил внимание на его заметную близость к культуре Лоемского могильника двенадцатого—четырнадцатого веков на реке Лузе. Такое заключение породило в литературе мнение о пермской принадлежности и самих чудских древностей указанного региона. Так, Жеребцов усматривает в Марьинском могильнике свидетельство сохранения в верховьях Ваги очагов пермянского населения, к концу четырнадцатого века в основном уже сдвинутого с этой территории новыми колонизационными потоками или смешавшегося с соседями.
Действительно, памятники междуречья Сухоны и Ваги имеют определённое (хотя и не полное) сходство с древностями бассейна реки Лузы. Однако материалы погребений Лоемского могильника настолько отличны от пермских, что исследовавшая их Савельева пришла к выводу: «В сложении лузской пермцы приняли участие определённые группы волжских или прибалтийских финнов, сохранившие в двенадцатом—четырнадцатом веках свои традиции в изготовлении посуды, бронзовых украшений и в обряде погребения». Очерченный Савельевой круг аналогий находит соответствие в древностях марийцев, мери, муромы и мордвы, с одной стороны, и в материалах веси — с другой, но при этом и местный погребальный обряд, и вещевой комплекс настолько своеобразны, что не позволяют идентифицировать обитателей Полузья с какой-либо из указанных группировок. Наиболее вероятно, что средневековое население региона составляло одно из локальных подразделений севернофинских племён, вошедшее позднее в качестве субстрата в состав лузской пермцы (с семнадцатого века известной уже под названием зырян).
Таким образом, можно заключить, что ко времени включения западной части Подвинья в орбиту древнерусского влияния здесь проживало неоднородное по составу население, сближающееся по наличию в нём единого севернофинского компонента, который, однако, у некоторых групп являлся ведущим, у других же был в основном поглощён прибалтийско-финским суперстратом. Чудь заволочская, не составлявшая этнокультурного единства, не была родственна древнепермским племенам, не может она прямолинейно сопоставляться и с весью, даже при признании значительного весского (или близкого к весскому) компонента в культуре западных групп чуди.
Связи Заволочья с Русью археологически засвидетельствованы уже на материалах наиболее ранних чудских памятников одиннадцатого—начала двенадцатого веков. На первом этапе они выражались в проникновении в Подвинье славяно-русских изделий — украшений, орудий труда, бытового инвентаря, использовавшихся в качестве эквивалента в меховой торговле. Позднее здесь начинают прослеживаться явления, не сводимые только к торговым связям. В чудских погребениях конца двенадцатого—тринадцатого веков на средней Ваге отмечена кружальная керамика древнерусских или близко напоминающих их форм, бытующая наряду с местными сосудами ручной лепки. В двенадцатом—четырнадцатом веках гончарная посуда получила распространение и в остальных районах западной части Подвинья. Установлено, что с конца двенадцатого века славянская керамика появляется и в землях перми вычегодской. По мнению Савельевой, такие находки наряду с попаданием на памятники замков, ключей, предметов христианского культа и многочисленных украшений древнерусского происхождения «свидетельствуют не только о торговых связях со славянами, но и о проникновении и оседании славян на Выми и Вычегде». Производилась ли такая керамика пришлыми мастерами, или же изготовлялась чудью, воспринявшей качественно новую технику гончарного производства и славянские формы посуды, в любом случае этот факт свидетельствует о непосредственных контактах финно-угров с первыми славянскими поселенцами, оседавшими в иноязычной среде или в ближайшем соседстве с аборигенами.
Не менее существенными представляются изменения в погребальной обрядности, обнаруживающей тенденцию к распространению однотипной западной ориентировки умерших и постепенному обеднению инвентаря. На материалах Усть-Пуйского могильника конца двенадцатого—тринадцатого веков устанавливается корреляция между появлением трупоположений с западной направленностью и увеличением вещей новгородского происхождения. Для определённого этапа (тринадцатого—четырнадцатого веков) можно предполагать и внедрение в чудскую среду некоторых элементов христианства. В этом отношении показательно наличие в бассейне Кокшеньги захоронений с нагрудными крестами, вряд ли использовавшихся только в качестве украшений.
Судя по письменным источникам и данным археологического обследования, в Заволочье до четырнадцатого века укреплённые поселения — опорные пункты колонизации — отсутствовали. По-видимому, на раннем этапе межэтнические контакты протекали в местностях, где происходил ежегодный сбор дани и осуществлялся торговый обмен с аборигенами. Здесь же могли оседать на постоянное житьё и русские поселенцы. Погосты в значении определённых территориальных единиц фиксируются в актовых документах с четырнадцатого века, причём для некоторых из них устанавливается преобладание чудского населения. В этом отношении заслуживает упоминания хорошо известный в исторической литературе факт покупки в тысяча триста шестнадцатом—тысяча триста восемнадцатом годах новгородским боярином Василием Матфеевичем Шенкурского погоста с «тянущими» к нему территориями у старост погоста с явно финноязычной антропонимикой («Азика, и Харагинец, и Ровда, и Игнатец, приехав от своей братьи»). Отметим, что в пределах реконструируемого Шенкурского погоста локализуются Аксеновский и синхронный грамоте Усть-Пуйский чудские могильники.
Обращение к указанному документу в сочетании с другими историческими источниками наводит на мысль о сохранении у чуди в четырнадцатом веке черт патриархального быта. В мировой грамоте с новгородским боярином староста Азика и остальные поименованные лица выступают от лица своей «братьи». Как полагает Данилова, это «представители отдельных семейных общин и других родственных коллективов, из которых состоял Шенкурский погост».
Проблема ассимиляции чуди, протекавшей в эпоху интенсивной колонизации Заволочья и слабо обеспеченной археологической информацией, решается в основном на ретроспективном использовании материалов этнографии, лингвистики, антропологии и фольклора с привлечением скудных исторических данных. Темпы самого процесса во многом определялись характером освоения территорий. Витов выделяет два типа колонизации Русского Севера:
-
колонизация, осуществлявшаяся в ходе массового переселения крестьян и сопровождавшаяся относительно быстрым изменением этнического состава (процесс главным образом этнический);
-
феодальный захват земель при монастырской или боярской колонизации, далеко не всегда сочетавшийся с широким продвижением русского крестьянства и вследствие этого определявший замедленные темпы ассимиляции финно-угров (процесс социально-экономический). Предложенная автором дифференциация не абсолютна, так как на Севере имело место частое переплетение этих процессов, но всё же она позволяет наметить преимущественные зоны колонизации обоих типов: для первого из них — Нижняя Двина, Беломорское побережье, водораздел Ваги и Сухоны, Кокшеньга, верхняя Вага, Среднее Подвинье и участки Верхнедвинского бассейна; для второго — окраинные районы на водоразделах по Онеге, в Прионежье, по Пинеге, Тойме и верхней Сухоне.
Вероятным выражением славяно-финно-угорского симбиоза являлись сложившиеся в конце двенадцатого—тринадцатом веках группы довольно независимого и относительно самостоятельного населения (упоминаемые в летописях «двиняне», «важане», «пинегжане», «вычегжане» и другие), изначально тяготевшие к Ростову. Их формирование определялось синтезом аборигенных групп с пришельцами из верхневолжских земель, в составе которых были как славяне, так и неславянские элементы.
По наблюдениям Дерягина и Комягиной, основанным на изучении исторической лексики северных диалектов, по крайней мере с пятнадцатого века может быть прослежена отчётливая диалектная граница, проходящая по водоразделу Онеги и Двины. В то время как диалекты бассейна Онеги тесно связаны с Северо-Западом, двинские и важские изоглоссы находят продолжение в южных и юго-восточных районах. «В конечном счёте это объясняется, видимо, тем, что русские пришли на Вагу и Двину в основном из района Верхнего Поволжья». Отмеченная граница совпадает с зонами распространения ильменско-беломорского антропологического типа, сложившегося в ходе массовой новгородской колонизации, и верхневолжского, связанного с низовским направлением колонизации.
Таким образом, к пятнадцатому веку на значительной территории Заволочья преобладал верхневолжский (владимиро-московский) массив населения, новгородские же следы малозаметны. Начало этого явления связано с последствиями монголо-татарского вторжения в верхневолжские княжества, вызвавшего отток на север широких крестьянских масс и передвижку туда мелких княжеских родов. Результатом низовского движения явилось оформление во второй половине—конце тринадцатого века области Ростовщины на Среднем и частично Нижнем Подвинье, дополненной в четырнадцатом—пятнадцатом веках вновь возникающими «ростовщинами». Направление колонизации способствовало ускоренным темпам ассимиляционного процесса. На такую мысль наталкивают некоторые данные антропологии. Битовым выделен онежский антропологический тип, связываемый им с финно-угорским субстратом и отмеченный в обширной полосе от Онежского озера до Мезени. Этот финно-угорский по происхождению тип топографически не коррелируется с ильменско-белозерским, но зато образует отчётливую взаимосвязь с носителями верхневолжского антропологического типа.
Рассмотренная выше грамота о покупке Шенкурского погоста фиксирует проживание чуди в среднем Поважье в начале четырнадцатого века. О чуди того же района повествует и Житие Варлаама Важского (умер в тысяча четыреста шестьдесят седьмом году), составленное в конце шестнадцатого века. В беломорских грамотах шестнадцатого века содержатся данные об особом поборе — «чудском постое», который взимался властями с местного населения на пути проезда из охотничьих угодий чуди в Новые Холмогоры (Архангельск). В рукописи Ричарда Джемса тысяча шестьсот восемнадцатого—тысяча шестьсот двадцатого годов упоминается народ «чюди» около Холмогор, «издревле так называемый, который говорил на языке, отличном от самоедов и лопарей; теперь там больше не находится».
Известия о чуди содержатся и в ряде житийных списков, повествующих о событиях конца тринадцатого—четырнадцатого веков, которые приурочены к местностям между Онежским озером и рекой Онегой. К району Водлозера (по Попову) или, возможно, нижнему течению Двины (по Мещерскому) относится «запись о мехах» новгородской берестяной грамоты номер два, датируемой рубежом четырнадцатого—пятнадцатого веков, с перечнем местных прибалтийско-финских имён; в последних Попов усматривает отражение какого-то исчезнувшего чудского диалекта. Являлось ли это более западное население ответвлением древней веси, как это доказывает Пименов, или же здесь могли проживать иные, впоследствии ассимилированные финские группировки — судить, не имея об этом достаточных свидетельств, не берёмся.
Процесс межэтнических контактов, начавшийся ещё в домонгольский период, активизировался в Заволочье во второй половине тринадцатого—четырнадцатом веках, когда Важская область и прилегающие земли стали объектом крестьянской колонизации. Вместе с тем разрежённость местного населения, рассеянность на больших пространствах и особенности его экономического уклада способствовали длительному сохранению финно-угорских общин. Заволочская чудь, по заключению Витова, была в значительной степени ассимилирована к шестнадцатому—семнадцатому векам, «хотя отдельные островки этой загадочной этнической группы (которая, скорее всего, не была единой) сохранялись до девятнадцатого века». Это подразумевает включение определённого местного компонента в состав как средневековой русской народности, так и северных великорусов.

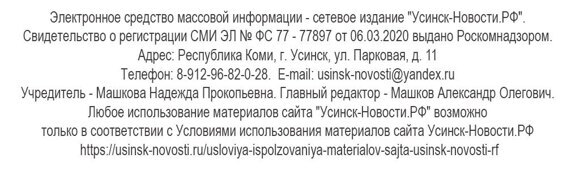
 Создание сайтов
Создание сайтов