В ходе изучения затрагиваемой проблемы было предложено несколько концептуальных решений. Одно из первых, в общих чертах представленное в работах Спицына Смирнова, Теплоухова, основывалось на предубеждении, что так называемые чудские древности среднего течения Чепцы и верховьев Камы, относящиеся к булгарскому времени, принадлежали некоему неизвестному или же угорскому населению. Следствием этого, с учетом зафиксированного в документах пятнадцатого-семнадцатого веков преимущественно восточного направления миграции представителей пермских народов, явилось утверждение мнения, что общие предки удмуртов, коми и коми-пермяков занимали на рубеже первого и второго тысячелетий «запад Вятской губернии и смежные территории Вологодской и Костромской». «Очень возможно, – писал далее Смирнов, – что русская колонизация дала первый толчок распадению этой племенной группы на отдельные ветви, отбросивши одну часть пермяков на запад Орловского уезда, другую на северо-восток вглубь Вологодской и Пермской губерний и двинувши вотяков на восток по Чепце, в область чуди».
В противовес «западной» версии изначального расселения общих предков коми и удмуртов в начале двадцатого века в своей работе, посвященной изучению «чувашских» заимствований в пермских языках, Ю. Вихманн заложил основание «южной» гипотезы. Указывая на значительную разницу в количестве булгаризмов в удмуртском и коми языках, а также ссылаясь на письменные источники, которые начиная с одиннадцатого века фиксируют пермян на Вычегде, он пришел к выводу, что предки коми переместились на север с территории нижнего Прикамья в период между восьмым и одиннадцатым веками. Основываясь на этом заключении Вихманна, привлекая документальные свидетельства о переселении с середины второго тысячелетия новой эры вычегодских коми в Верхнее Прикамье и оставаясь, как и его отец, приверженцем угорской версии происхождения «чудских» памятников Предуралья, А.Ф. Теплоухов рисует следующую картину расселения пермских народов: «в седьмом-восьмом веках предки коми и удмуртов жили еще по соседству с чувашами, т.е. южнее Верхней Камы, Верхней Вычегды и Чепцы». Позднее, «пермяки и зыряне на места своего обитания в Архангельскую и Вологодскую губернии, из последней в Пермскую, а отчасти и непосредственно в эту последнюю, прошли через Вятскую губернию». На южные районы изначального расселения прапермян указывал и В.И. Лыткин, исследовавший помимо булгарских также и иранские заимствования в пермских языках. «Носители общепермского языка-основы, – писал он, – жили длительное время где-то в бассейне нижней Камы и ее притока Вятки, в непосредственной близости со скифо-сарматами, а с шестого-седьмого веков новой эры – с волжскими булгарами». Однако в отличие от А.Ф. Теплоухова Лыткин не считал возможным связывать появление коми-пермяцкого народа с поздней миграцией (в шестнадцатом-семнадцатом веках) в Верхнее Прикамье коми-зырян, полагая, что после прихода в Среднее Поволжье булгар часть пермян, переселившись в более северные районы, стала основой «коми (общекоми) народности, формировавшейся где-то на территории современной Кировской и Молотовской (ныне Пермский край) областей».
С утверждением во второй трети двадцатого века в среде археологов мнения, осторожно высказанного еще в конце девятнадцатого века А.А. Спицыным и И.Н. Смирновым, о безусловной связи создателей чудских древностей Прикамья булгарского времени с пермскими народами, происходит зарождение новой концептуальной схемы, которую можно условно назвать «верхнекамско-чепецко-вычегодской». Уже к концу тридцатых годов двадцатого столетия А.П. Смирнов отказывается от неопределенного термина «восточнофинское» для обозначения населения, оставившего чепецкие и верхнекамские памятники, считая, что Чепецкая археологическая культура создана удмуртами, а средневековые памятники Верхнего Прикамья оставлены коми-пермяками. На теснейшей связи истории коми-пермяков с Верхокамьем настаивал в своей статье «К этногенезу коми» М.В. Талицкий, объединявший археологические объекты этого региона, датированные им десятым-четырнадцатым веками, в так называемый «родановский тип». Несмотря на слабую в то время изученность в археологическом отношении вычегодского бассейна, исследователь считал возможным говорить о сложении не ранее десятого века «общности населения Верхнего Прикамья и Вычегды». Причем процесс ее возникновения проходил «под непосредственным влиянием продвижения плужного земледелия из Прикамья на Вычегду», что, по-мнению Талицкого, отражало факт переселения предков коми-зырян на их современные территории. Завершающим звеном в указанной схеме стало выделение в конце шестидесятых годов двадцатого века Э.А. Савельевой в бассейне Вычегды Вымской археологической культуры, которую она датировала десятым-четырнадцатым веками. Так, к семидесятым годам двадцатого века складывается внешне весьма стройная, следствием чего объясняется ее популярность, концепция, согласно которой в конце первого – начале второго тысячелетия новой эры в смежных районах сосуществуют три синхронные археологические культуры – Чепецкая, Родановская и Вымская, отражающие процесс формирования трех народов – удмуртов, коми-пермяков и коми-зырян.
Однако результаты археологических открытий в Южном Прикамье, позволившие выделить ряд постпьяноборских культур (пятом-девятом веках), в создателях которых большинство археологов также видело предков современных пермских народов, настоятельно требовали внесения изменений в вышеизложенную схему. Уже в пятидесятых – шестидесятых годах прошлого столетия в работах А.П. Смирнова, В.А. Оборина, В.Ф. Генинга делаются попытки выявления роли пьяноборцев и их потомков в этногенезе пермских народов и, прежде всего, удмуртов. Впрочем, указанные авторы по-прежнему полагали, что ведущую роль в процессе становления удмуртского народа играло население Чепецкой культуры, которое, по мнению Оборина, «стало во главе союза племен, послужившего основой для сложения удмуртской народности». В тысяча девятьсот восемьдесят седьмом году Р.Д. Голдина опубликовала обширное исследование «Проблемы этнической истории пермских народов в эпоху железа (по археологическим материалам)». Справедливо полагая, что небольшая территория Чепецкого бассейна не может являться основным районом, в котором происходило формирование удмуртского народа, решающую роль в этом процессе исследовательница отводит населению, оставившему памятники постпьяноборских культур Нижнего Прикамья пятого-девятого веков, которое определяется ею как «праудмуртское». В целом же, Голдина считает, что уже в конце первого тысячелетия до новой эры произошло обособление предков удмуртов («Пьяноборская общность» третьего века до новой эры – четвертого века новой эры) от предков коми («Гляденовская общность» третьего века до новой эры – четвертого века новой эры, представленная двумя («южным» и «северным»), территориально значительно отдаленными друг от друга, вариантами). Поддерживая мнение Э.А. Савельевой о связи Вымской археологической культуры с предшествовавшей ей на Вычегде Ванвиздинской культурой (шестом-девятом веках), наследовавшей, в свою очередь, северному варианту Гляденово – мнении, разделяемом далеко не всеми исследователями – Р.Д. Голдина полагает, что предки коми-зырян начинают осваивать среднее течение Вычегды уже с шестого века новой эры. В то же время на основе южного варианта Гляденово в Верхнем и Среднем Прикамье складываются Ломоватовская и Неволинская археологические культуры (конец четвертого – девятый века новой эры), население которых составляют «пракоми-пермяки».
Недостатком вышеизложенной концепции, на что практически сразу было обращено внимание, является значительное (практически на тысячелетие по сравнению с данными лингвистики) удревнение времени распада общности носителей как прапермского, так и пракоми языков. Стремясь избежать столь разительного расхождения в выводах двух дисциплин и, безусловно, признавая приоритет в решении вопросов о времени и характере распада языкового единства за лингвистами, А.Х. Халиков стремился обосновать гипотезу, согласно которой прапермская общность занимала относительно небольшую территорию на Вычегде (Ванвиздинская культура пятого-девятого веков), откуда в начале второго тысячелетия новой эры начинается продвижение отдельных пермских «племен» в более южные районы. Данный вариант решения интересующей нас проблемы базировался на признании существования в прапермском языке добулгарских тюркских заимствований (население Чепцы и Верхнего Прикамья, оставившее памятники Поломской и Ломоватовской культур (пятом-девятом веках) Халиков без достаточных на то оснований атрибутировал как древнетюркское) и отсутствии в нем каких-либо следов контактов с балтами или ранними славянами, с которыми археологи стали соотносить население выявленной в Среднем Поволжье Именьковской археологической культуры (пятом-седьмом веках). Однако, как показали исследования В.В. Напольских, если выводы о древнетюркских добулгарских заимствованиях в прапермском языке, о которых в своих работах пишет И.В. Тараканов и на которого, в свою очередь, ссылался Халиков, преждевременны, то наличие в пермском языке-основе прото-(пара-)славянских заимствований, появление которых согласуется со временем присутствия в Среднем Поволжье создателей Именьковской культуры, в настоящее время является установленным фактом.
В последнее время проблемой распада прапермской этнолингвистической общности и изучением последующего расселения отдельных пермских народов занимается С.К. Белых. Используя метод лингвистической палеонтологии он приходит к выводу, что общие языковые предки современных пермских народов в конце первого тысячелетия новой эры могли проживать на территории Пермского Прикамья. Это позволяет ему предположить, что «наиболее предпочтительным кандидатом на роль археологического аналога поздней эндопермской общности» является южный вариант Гляденовской археологической культуры. В последние века первого тысячелетия новой эры происходит «разрыв относительно компактного доселе ядра прапермской этнолингвистической общности» и расселение пермян на «обширных территориях от Вычегды и Выми до нижней Камы и Вятки». По-мнению Белых, часть прапермян, переселившись в низовья Камы и Вятки и ассимилировав здесь возможно родственное в языковом отношении постпьяноборское (позднеазелинское) население, в дальнейшем, взаимодействуя с жителями бассейна Чепцы, участвует в сложении удмуртского народа. На основе другой части прапермян, мигрировавших на Вычегду и создавших памятники Вымской археологической культуры, происходит оформление коми-зырян. Наконец, прапермяне, оставшиеся в Верхнем Прикамье (Родановская культура), становятся непосредственными предками коми-пермяков. Как видим, предложенная Белых концепция, являя в своей основе оригинальное и убедительное решение проблемы пермской прародины, в целом предусматривает миграцию в конце первого – начале второго тысячелетия новой эры языковых предков коми-зырян и удмуртов соответственно в северо- и юго-западном направлении из районов Среднего и Верхнего Прикамья, в которых на всем протяжении средневековья продолжает сохраняться пермское население, участвующее в сложении коми-пермяков.
Между тем, последний тезис может быть оспорен. Так, если переселение в конце первого тысячелетия новой эры значительного количества верхнекамского и, возможно, чепецкого населения в низовья Камы фиксируется исследователями весьма четко, то массовая миграция из Верхнего Прикамья на Вычегду обоснованна в гораздо меньшей степени и может быть поставлена под сомнение. Более того, такое развитие событий противоречит данным письменных источников, которые свидетельствуют, по крайней мере с конца четырнадцатого века, об обратном направлении расселения коми. Наконец, немаловажным фактом, затрудняющим признать верными последние звенья в схеме С.К. Белых, является очевидное запустение Чепецкого бассейна и Верхнего Прикамья к рубежу тринадцатого-четырнадцатого веков, не получившее пока у археологов должного объяснения, но очевидно, как-то связанного с опустошением Булгарии монголами в середине тринадцатого столетия. Учитывая все выше сказанное, в предлагаемой работе мы попытаемся дать альтернативное решение затронутой нами проблемы, представив самый общий очерк расселения пермских народов в указанный хронологический период, положения которого, по возможности, максимально бы удовлетворяли ряду наиболее значимых условий, а именно:
-
Данные пермского языкознания свидетельствуют о значительной близости современных пермских языков и об отсутствии в прапермском языке существенных диалектных расхождений, что указывает на относительно компактный характер расселения прапермян. В то же время, большинство лингвистов разделяет мнение, согласно которому распад прапермского языкового единства (вероятно, правильнее все же говорить о распаде общности носителей прапермского языка, что не означает автоматического разрыва единого для ее обособившихся частей языкового поля) произошел на рубеже первого-второго тысячелетия новой эры. Основанием для данного вывода служит разница количества булгарских заимствований в пермских языках, появление которых стало возможным не ранее восьмого века – времени прихода в Среднее Поволжье булгар.
-
Необходимо учитывать, что определенный С.К. Белых по данным пермских языков экологический ареал проживания прапермян накануне распада прапермского языка (см. п. 1) связан с районами среднего течения Камы, «приблизительно между пятьдесят седьмой и пятьдесят восьмой параллелями северной широты». При этом следует помнить, что территория, на которой одновременно могли обитать все известные носителям языка виды растений и животных не обязательно совпадает с территорией их собственного расселения. Таким образом, локализация в Среднем Прикамье «пермского праязыкового экологического ареала» при определении территории проживания («прародины») общих предков коми и удмуртов допускает, с учетом данных археологии, разумное ее смещение как в прилегающие районы Верхнего, так и Нижнего Прикамья.
-
При определении характера расселения пермян во второй половине первого – начале второго тысячелетия новой эры необходимо учитывать изменения в размещении возможных контактных зон с носителями иранских (актуально до конца прапермской эпохи), прото-(пара-)славянского (хронологически время контактирования ограничено периодом пребывания в Среднем Поволжье населения, оставившего памятники Именьковской археологической культуры пятого-седьмого века) и булгарского (не ранее восьмого века) языков.
-
При определении направления миграций пермян необходимо учитывать фиксируемое археологами переселение значительной массы верхнекамского и, возможно, чепецкого населения в низовья Камы в конце первого тысячелетия новой эры, а также прекращение функционирования поселений Чепецкой и Родановской культур на рубеже тринадцатого-четырнадцатого веков, подтверждаемого письменными источниками, которые беспристрастно свидетельствуют, что территории, на которых располагались памятники вышеуказанных культур, осваивались переселенцами – предками современного населения – из более западных районов с конца четырнадцатого – начала пятнадцатого веков (Верхнее Прикамье), но наиболее интенсивно в шестнадцатом-семнадцатом веках (Верхнее Прикамье, Чепца). Таким образом, хорошо выделяется промежуток времени примерно от ста до двухсот лет (в зависимости от района), в течении которого ни на Чепце, ни в Верхнем Прикамье не было постоянного оседлого населения.
-
Важным при определении характера расселения коми является учет данных по Вымской археологической культуре, датированной Э.А. Савельевой десятым-четырнадцатым веками. В качестве основного аргумента при определении верхнего рубежа культуры указывается на дохристианский обряд погребения (именно в этом районе проходила основная деятельность Стефана Пермского в конце четырнадцатого века, поэтому в принципе можно согласиться с этой датировкой). В то же время, при определении нижнего рубежа существования Вымской культуры решающую роль сыграли обнаруженные в захоронениях монеты, в своем подавляющем большинстве отчеканенные в странах Западной Европы в одиннадцатом веке. Это обстоятельство уже обращало на себя внимание и ряд авторов указывал на необходимость пересмотра нижнего хронологического рубежа, предлагая остановиться на одиннадцатом веке. В целом соглашаясь с этим замечанием, обратим однако внимание, что монеты, единственный надежный датирующий элемент в погребальном комплексе могильников Вымской культуры, использовались в качестве украшений – обстоятельство, требующее особого учета при датировке. Сказанное выше позволяет нам присоединиться к мнению тех исследователей, которые не считают возможным говорить о преемственности населения данной культуры и населения, оставившего памятники Ванвиздинской культуры (пятом-девятом веках, по другим данным – четвертом-восьмом веке) не только по причине очевидного хронологического разрыва между ними, но и вследствие разных экономических основ жизнедеятельности обоих обществ: ванвиздинцы – охотники и рыболовы, в то время как вымцы – земледельцы.
-
Для определения характера расселения удмуртов в начале второго тысячелетия новой эры мы имеем бесценный источник, каковым является удмуртская родовая система, длительному сохранению которой, в отличие от коми, способствовала поздняя и, в большинстве своем, поверхностная христианизация. Культ предков, будучи одним из основных элементов удмуртской народной религии, предполагал четкое осознание каждым удмуртом своей принадлежности к тому или иному генеалогическому роду (удм. выжы). Совокупность данных о расселении удмуртских родов, относящихся к пятнадцатому–семнадцатому векам, при корреляции с известиями исторических источников, описывающими деятельность каринских князей, в зависимости от которых c последней трети пятнадцатого века по тысяча пятьсот восемьдесят восьмой год находились северные удмурты и бесермяне, позволила автору этих строк заключить, что в начале второго тысячелетия новой эры удмуртский этнос занимал территорию южного Прикамья, примерно соответствующую современным северо-западным районам Татарстана, юго-западным районам Удмуртии и юго-восточным районам Кировской области. Именно из этого региона не ранее второй половины пятнадцатого века выделились два основных колонизационных потока, направленных на освоение Чепецкого бассейна.
-
Наконец, при изучении расселения пермских народов в конце первого – первой половине второго тысячелетия новой эры следует учитывать данные топонимии. Исследования А.К. Матвеева и В.В. Напольских, убедительно показывают, что до сих пор широко распространенное, главным образом в среде археологов, представление о неком угорском или даже «угро-самодийском» населении на территории Северо-Восточной Европы, которую впоследствии освоили пермские народы, опирается на малоценные в научном отношении выводы отдельных лингвистов. В тоже время важным является замечание Матвеева, что «в древности пермские народы жили гораздо западнее (вплоть до Северной Двины и даже до Онеги) и южнее, непосредственно смыкаясь с марийцами и мерей», а «уральская Пермь была лишь одним из ответвлений пермской группы».
Прежде чем приступить к изложению своего решения интересующей нас проблемы несколько слов скажем относительно нашего понимания категории этнос. В ряде своих работ автор уже отмечал, что ему близка концепция этноса, предложенная известным отечественным этнологом и философом Ю.И. Семеновым. Еще раз повторим основной постулат этой концепции: «Этносы суть подразделения населения. Но о населении общества как о самостоятельном явлении, отличном от самого общества, можно говорить только после смены демосоциальных организмов геосоциальными. А это значит, что этносы в точном смысле этого слова существуют только в классовом или цивилизованном обществе. В обществе первобытном их нет». Рубеж первого – второго тысячелетия новой эры в истории Прикамья – это время, когда местные сообщества, приняв участие в создании полиэтничного Булгарского государства, окончательно переступают порог цивилизации. Таким образом, объектом нашего внимания, по крайней мере после указанного рубежа, выступают уже не пермоязычные «племена» и даже не «территориальные племенные» объединения, а вполне сформировавшиеся этнические общности. Отметим также, что этносы могут быть первичными (т.е. образовавшимися в период перехода конкретных обществ от варварства к цивилизации) и вторичными, которые возникают на основе первичных этносов вследствие воздействия на них определенных социокультурных факторов. В качестве примера укажем сербов – первичный этнос, часть которого, подвергшись исламизации, оформилась в боснийский, вторичный этнос.
Итак, различные прапермские сообщества (потомки населения, оставившего памятники южного варианта Гляденовской культуры (третьего века до новой эры – четвертого века новой эры)) во второй половине первого тысячелетия новой эры занимали земли по берегам Камы и ее притоков, не проникая глубоко, за исключением редких случаев (р. Чепца осваивается не ранее пятого века новой эры) в огромный лесной массив Вятско-Камского междуречья (археологические культуры пятого-девятого веков – Ломоватовская, Неволинская, Поломская). Та группа прапермян, которая послужила исходной в ходе формирования исторических пермских этносов (основу которых составили неволинцы и, вероятно, частично ломоватовцы), по-видимому, в результате каких-то подвижек населения, вызванных уходом в седьмом веке создателей памятников Именьковской культуры (пятого-седьмого веков), оказывается к моменту прихода булгар в Среднее Поволжье на территориях, прилегающих к нижнему течению Камы и Вятки, где довольно быстро ассимилирует постпьяноборские, возможно родственные в языковом отношении, популяции. Еще какое-то время после прихода булгар предки коми и удмуртов проживали в непосредственной близости друг от друга. Здесь, в недрах прапермских сообществ в конце первого тысячелетия новой эры проходили пока мало поддающиеся изучению процессы, подготавливавшие почву для оформления будущих самостоятельных этносов удмуртов и коми. Наконец, в силу каких-то причин та часть прапермян, которой суждено было стать народом коми, предприняла на рубеже первого–второго тысячелетия новой эры переселение на север. Среди оставшихся в низовьях Камы прапермян получает распространение этноним *odomort, который, судя по наиболее аргументированной версии его происхождения, предложенной В.В. Напольских и С.К. Белых, первоначально использовался неким ираноязычным населением для обозначения своих соседей (др.-удм. *odomort < иранск. *antamarta, означавшее в языке-источнике 'житель пограничья, окраины'). Фонетическое изменение облика этнонима (nt > d), проникшего в какие-то пермские диалекты и постепенно ставшего самоназванием формирующегося удмуртского этноса, указывает на период его усвоения не позднее конца первого тысячелетия новой эры (по крайней мере, до установления прочных языковых контактов пермян с булгарами), после которого действие закона деназализации прекратилось. В язык соседнего марийского населения удмуртский эндоэтноним проникает уже после указанного процесса (ср. марийское одо, одомарий 'удмурт'). Языком-источником, в котором появился этноним, ставший в последующем самоназванием удмуртов, мог быть буртасский язык, близкий древнеосетинскому. По мнению В.А. Никонова, периферийные районы расселения буртас в конце первого тысячелетия новой эры примыкали к среднему течению Волги в районе впадения в нее Камы. Таким образом, буртасы являются единственным (если не считать среднеазиатских купцов, посещавших булгар) известным для интересующего нас времени ираноязычным народом, с которым могли контактировать переселившиеся в конце первого тысячелетия новой эры в низовья Камы и Вятки прапермские группы и от которого они могли усвоить поздние общепермские иранизмы.
На формирование в конце первого тысячелетия новой эры в низовьях Камы и Вятки устойчивого этнополитического образования, основу населения которого составили прапермские группы, участвовавшие в сложении удмуртского народа, указывают письменные источники. Так, в письме хазарского царя Иосифа Коковцев тысяча девятьсот тридцать второго года девяносто восемь-девяносто девять в числе прочих живущих на реке Итиль народов фигурирует народ ар, контекст упоминания которого в соседстве с народом ису (это обстоятельство дало повод позднейшим переписчикам письма, не знавшим реальную этническую карту Среднего Поволжья, к объединению обоих названий в искусственный композит арису) позволяет выйти на прямые аналогии с известием Абу Хамида ал-Гарнати о двух зависимых от Булгарии областях вилайатах – Ару и Ису, с представителями которых он общался зимой тысяча сто тридцать пятого/шестого года в Булгаре Путешествие тысяча девятьсот семьдесят первого года тридцать один; Чураков две тысячи первый год. В свою очередь, сообщение об области Ару корреспондируется с известием русских летописей под тысяча триста семьдесят девятым/восьмидесятым годом об уничтожении на нижней Вятке в пределах Арской земли отряда вятчан Приселков тысяча девятьсот пятидесятый год четыреста девятнадцать. Наконец, безусловно, именно по отношению к данной территории опять же в русских летописях под тысяча четыреста шестьдесят девятым годом упоминается в качестве составной части Казанского ханства Вотятская земля ПСРЛ тысяча девятьсот сорок девятый год двести восемьдесят два, которая в источниках шестнадцатого века именуется Арской стороной ПСРЛ тысяча девятьсот шестьдесят пятый год сто шестьдесят семь. Иными словами, в нижнем Прикамье, вплоть до его вхождения в состав Русского государства, довольно продолжительное время существовало территориальное образование, находившееся на протяжении своей истории в различных отношениях с Хазарией, Булгарией, Золотой Ордой и Казанским ханством, административным центром которого, по крайней мере не позднее пятнадцатого века, становится город Арск, где находилась резиденция арских князей. Как показал проведенный нами анализ характера расселения удмуртских родов Чураков две тысячи седьмой год, указанная территория являлась основным районом сосредоточения удмуртов вплоть до пятнадцатого века.
Новый этап в этнической истории удмуртов начинается со второй половины пятнадцатого века, когда усилившееся Московское княжество заявило о своих притязаниях на Вятско-Камский край. Около тысяча четыреста шестьдесят второго года Иван третий наделил выходца из улуса Нукус Продолжение тысяча семьсот девяносто пятый год двести пятьдесят восемь-двести пятьдесят девять; Əхмəтҗанов тысяча девятьсот девяносто пятый год двенадцать Мангытского юрта Кара-бека поместьем недалеко от городов Вятки и Слободского Чураков две тысячи пятый год а; две тысячи шестой год а, которое стало в последующем центром нового Каринского стана. Причем, очевидно, Кара-беку предписывалось приглашать на свои земли под свое управление людей «из зарубежья», каковым в тех условиях выступала Арская сторона Казанского ханства. Это же требование неоднократно повторялось в грамотах Василия третьего и Ивана четвертого, выданных потомкам Кара-бека Гришкина тысяча девятьсот восемьдесят восьмой год тридцать пять, тридцать семь. Так было положено начало формированию территориальной группы удмуртов ватка (то есть удмуртов, живших в Вятской земле; удмуртов-вятчан подробнее Чураков две тысячи шестой год б двести пятьдесят три-двести пятьдесят восемь), основу которой составили выходцы с Нижней Вятки, принадлежавшие к родам Дурга, Сюра, Чабъя и Чола. Вместе с удмуртами на Вятку в Каринский стан перешли и бесермяне (в источниках чюваша) – этнос, сформировавшийся из части южноудмуртского населения (это позволяет охарактеризовать его как вторичный), находившейся под наиболее сильным булгарским влиянием. Здесь необходимо заметить, что небольшие группы удмуртов (купцы, полон и тому подобное) проживали, вероятно, на Вятке и ранее. В связи с этим, весьма правдоподобно отождествление И.Н. Смирновым тысяча восемьсот девяносто первый год шестьдесят девять сырьян Епифания Премудрого около тысяча триста девяносто шестого года с удмуртами Сырьянского стана тысяча пятьсот пятьдесят седьмого года Документы удмуртов тысяча девятьсот пятьдесят восьмой год триста пятьдесят три-триста пятьдесят четыре, которые, добавим со своей стороны, могли принадлежать к роду Сӧръя с Нижней Вятки. Во всяком случае, пока нет оснований утверждать о безусловной связи названия сырьяне со «скользящим» этнонимом зыряне, который стал использоваться русскими по отношению к вычегодским коми не ранее семнадцатого века. Удмурты, осевшие в вятских Лужановском и Сырьянском станах, оказались в непосредственном соседстве с теми коми, проживавшими в устьюжской Лузской Пермце и Ужгинской волости Перми Вычегодской, значительное число которых в шестнадцатом-семнадцатом веках переселилось в Зюздинский край и Пермь Великую, оказавшись таким образом общей популяционной составляющей юго-западных коми-зырян и части коми-пермяков. Очевидно, следами установившихся в тот период ареальных контактов следует объяснять отмечаемые многими лингвистами общие лексико-семантические и морфологические явления в соответствующих диалектах коми-зырянского, коми-пермяцкого и удмуртского языков Максимов тысяча девятьсот девяносто девятый год.
В начале шестнадцатого века происходит освоение удмуртами Чепецкого бассейна, который до этого около двух столетий, после прекращения функционирования в тринадцатом веке последних поселений Чепецкой археологической культуры (десятого-тринадцатого веков), оставался незаселенным. В колонизации Чепцы приняли участие с одной стороны удмурты ватка с бесермянами (двигались вверх по течению), с другой стороны удмурты, проникавшие на Верхнюю и Среднюю Чепцу по реке Лозе из бассейнов Кильмези (то есть удмурты калмезы) и Ижа. Причем, судя по сохранившимся грамотам Гришкина тысяча девятьсот восемьдесят восьмой год тридцать девять, способствовали этому процессу заинтересованные в нем каринские князья – потомки Кара-бека подробнее Чураков две тысячи седьмой год, которые в начале шестнадцатого века получили от Ивана третьего «Чепцу от истоков ее до устья» Усманов тысяча девятьсот семьдесят второй год сто восемьдесят два-сто восемьдесят три; Əхмəтҗанов тысяча девятьсот девяносто пятый год двенадцать. Замечательно, что из тех же грамот мы узнаем, что первые удмуртские поселенцы, принадлежавшие к родам Пурга, Вортча, возможно, Бӧня и Пӧбья Белых, Напольских тысяча девятьсот девяносто четвертый год двести восемьдесят два, появляются в районе верхнего течения Чепцы лишь в годы правления Василия третьего. После присоединения к Русскому государству Казанского ханства, наметилось еще одно направление миграции удмуртов – башкирские земли, а именно Буйско-Таныпское междуречье. Такова, на наш взгляд, в общих чертах схема расселения и изменения этнической территории удмуртов на протяжении десятого–шестнадцатого веков.
Судьба потомков прапермян, составивших в последующем коми этнос нам представляется таковой. Вскоре после прихода в район слияния Камы и Волги в восьмом веке булгар, часть прапермского населения, в состав которого, по-видимому, вошли и те периферийные группы прапермян, которые контактировали с ираноязычными буртасами (отсюда, вероятно, и некоторые поздние иранизмы в коми языке, отсутствующие в удмуртском) и предками марийцев, на что указывают марийские заимствования в современном лузско-летском диалекте коми языка Жилина тысяча девятьсот семьдесят девятый год, по реке Вятке и ее притоку Моломе отходит на север, обосновываясь в основной своей массе, первоначально в весьма компактном районе вдоль нижнего течения реки Юг и ее притока Лузы и далее вниз по Северной Двине до впадения Вычегды. Именно здесь, как нам представляется, на рубеже первого и второго тысячелетия новой эры завершается формирование коми этноса. Вполне возможно, что покинув район своего прежнего расселения на нижней Каме и Вятке в качестве самоназвания (komi, сравни прауральское *komз 'человек, мужчина') они сохранили древний пермский эндоэтноним, заместившийся у оставшихся в нижнем Прикамье прапермян заимствованным этнонимом *odomort. Вскоре очерченный нами район становится объектом внимания Древнерусского государства, которому, судя по «Повести временных лет», удается не позднее начала одиннадцатого века возложить дань на волости с коми населением, которые становятся известны русским через посредство какого-то языка, относящегося к прибалтийско-финской группе, под общим именем Перми (< *perä-maa 'задняя земля').
В период феодальной раздробленности на Руси земли коми оказываются разделенными между владениями Ростовских князей (нижняя Вычегда, Лузская и Вилегодская Пермца – район известный также как «пермские места устюгские») и владениями Великого Новгорода (собственно Пермь Вычегодская, куда не ранее рубежа одиннадцатого-двенадцатого веков переселяются коми, оставившие памятники Вымской культуры). В целом, о результатах первых четырех веков расселения коми на новой родине можно судить по составленной около тысяча триста девяносто шестого года Епифанием Премудрым «Повести о Стефане, епископе Пермском» Повесть тысяча девятьсот восемьдесят второй год, а также данным Вычегодско-Вымской летописи Документы коми тысяча девятьсот пятьдесят восьмой год двести пятьдесят семь-двести семьдесят один. К началу миссионерской деятельности Стефана населением собственно Перми Вычегодской были освоены среднее течение Вычегды, Вымь и частично Вишера. Кроме того, в «Повести» дополнительно перечислены следующие живущие «вкруг Перми» (то есть вокруг Перми Вычегодской) «иноязычники» (то есть нерусское население): «двиняне, устьюжане, вилежане, вычегжане, пинежане, южене, серьяне, гаияне, виатчане». Первые шесть названий безусловно отражают факт расселения коми вдоль соответствующих рек в пределах Устюжских «пермских мест». Относительно сырьян нами выше уже было отмечено предположение, что это могли быть удмурты Сырьянского стана, впрочем возможно и другое объяснение. Следующие в списке два названия указывают на проживание пермского населения на Вятке и, возможно, в районе современного села Гайны Коми-пермяцкого округа. Если последнее предположение верно, то, учитывая упоминание в том же источнике Перми Великой или Чусовой, можно уверено утверждать, что к концу четырнадцатого века коми проникают из Перми Вычегодской в Верхокамье. Причем, колонизационные потоки шли как по Сысоле и далее через «Сырьянский волок» по системе Кажим-Весляна-Кама, так и по так называемому «Немскому волоку», через который вычегодские коми проникли в район слияния Колвы и Вишеры, образовав колонию неподалеку от озера Чусовского. О двух основных путях проникновения коми в Верхнее Прикамье свидетельствуют и данные коми диалектологии. Так, если не учитывать подразделение коми диалектов по признаку звукоперехода л>в, поскольку это фонетическое явление относится к более позднему времени (к семнадцатому веку по Фокош-Фукс), то становится очевидно, что общие черты фонетики, морфологии и лексики сближают группы юго-западных диалектов коми-зырянского языка (лузско-летского, среднесысольского и верхнесысольского) с группой западных диалектов коми-пермяцкого языка (зюздинским, косинским, кочевским, верх-лупьинским), в то время как особенности верхневычегодского диалекта коми-зырянского языка находят параллели в коми-язьвинском наречии коми-пермяцкого языка, которое в свою очередь через посредство ныне мертвого усольского говора связано с его юго-восточными диалектами – нижнеиньвенским и оньковским Лыткин тысяча девятьсот пятьдесят пятый год; Тепляшина, Лыткин тысяча девятьсот семьдесят шестой год; Баталова Р.М. тысяча девятьсот восемьдесят второй год. Сам факт появления в конце четырнадцатого века оппозиции Пермь Вычегодская (она же Пермь Малая) и Пермь Великая ясно указывает на направление колонизации: в подобных парах определение «великая» служит указанием на колонизуемый район, тогда как определение «малая» (или его отсутствие) указывает на исходную область колонизации. По-видимому, появление коми населения в районах Верхнего Прикамья следует связывать с миссионерской деятельностью Стефана Пермского, одобренной великим князем Дмитрием Ивановичем, стремившимся окончательно выдавить новгородцев из их пермских владений. Подобно тому, как одни коми, не желавшие креститься бежали на Удору и Пинегу, другие уходили на Каму. Здесь уместно будет напомнить, что коми население Перми Великой окончательно было крещено лишь при пятом епископе Пермском Ионе в тысяча четыреста шестьдесят втором году.
В пятнадцатом веке коми продолжают смещаться преимущественно в восточном направлении, чему во многом способствуют события, связанные с феодальной войной второй трети пятнадцатого века, в ходе которых земли вычегодских и устюжских коми подвергались неоднократному разорению Документы коми тысяча девятьсот пятьдесят восьмой год двести шестьдесят-двести шестьдесят один. Из жалованной грамоты тысяча четыреста восемьдесят пятого года мы узнаем, что в свое время Иван третий пожаловал «на бедность» коми население Вилегоцкой и Лузской Пермцы, находящихся в административном подчинении Устюга, угодьями «на реке Кобры и на Летской и на реке Маломы» Документы коми тысяча девятьсот пятьдесят восьмой год двести сорок шесть. В то же время угодья коми Ужговской волости в пятнадцатом веке доходят до верховьев Камы, впрочем, постоянное население появляется здесь лишь в шестнадцатом веке, когда возникает сначала Кайгородская волость, из состава которой в конце этого же столетия выделяется Зюздинская волость. Из вышеуказанной грамоты Ивана третьего мы узнаем, что граница между Пермью Вычегодской и Пермью Великой в то время проходила в районе верхнего течения реки Камы – «речка Порыша, да речка Рубика» Документы коми тысяча девятьсот пятьдесят восьмой год двести сорок шесть. В тысяча пятьсот восемьдесят шестом году происходит передача двух волостей – Кайгорода и Зюзено – Перми Вычегодской в состав Перми Великой Документы коми тысяча девятьсот пятьдесят восьмой год двести шестьдесят семь. Данный шаг, на фоне почти двухвекового административного разделения и распространении на вычегодских коми «скользящего» этнонима зыряне, вытеснившего прежний общекоми экзоэтноним пермяки, способствовал закреплению в сознании, прежде всего русских жителей, представления о «Зырянском крае» и «Пермском крае» и соответственно об их населении, как о самостоятельных народах зырянах и пермяках, несмотря на то, что сами коми, повсеместно используя общее самоназвание и представляя по сути единую популяцию, рассматривали указанное деление лишь как административное.
Возвращаясь назад, необходимо затронуть вопрос о судьбе оставшегося на Верхней Каме и Чепце прапермского населения, язык которого, по-видимому, время сохранял общие черты с языком прапермян, переселившихся в восьмом-десятом веках в низовья Камы. Во всяком случае, еще в двенадцатом веке ал-Гарнати видел в Булгаре выходцев из областей Ису (очевидно Верхнее Прикамье и Чепца) и Ару (удмурты) в составе «одной группы» – обстоятельство, косвенно свидетельствующее в пользу высказанного тезиса Путешествие тысяча девятьсот семьдесят первого года тридцать один; Чураков две тысячи первый год. Возможно, экономика верхнекамского населения с конца первого тысячелетия новой эры в условиях высокого спроса в странах Востока на пушнину, мед, воск, лесные орехи, бобровую струю и прочие северные товары претерпела значительную трансформацию, переориентировавшись с экстенсивного и малопродуктивного в условиях Верхнего Прикамья земледелия на более эффективные при постоянных и прочных торговых связях со странами Востока пушной и лесной промыслы и на обслуживание торговли по Камскому пути и в Югру. Нехватку хлеба верхнекамское население могло покрывать закупками или прямым обменом на продукты своих промыслов у южных соседей. Однако подобная специализация экономики таила прямую угрозу верхнекамско-чепецким сообществам. Пока обмен товарами был обоюдовыгодным и, что пожалуй даже важнее, регулярным, отрицательные стороны подобной специализации были маловыражены и зависимость выживания местных сообществ от хлебных поставок не была столь очевидной. Монгольское нашествие и последующий разгром Булгарии, прекращение на какой-то, возможно достаточно продолжительный, срок торговых связей на фоне общего похолодания, вызванного наступлением Малого ледникового периода, привели к тому, что жители Верхней Камы и Чепцы, очевидно, столкнулись с угрозой голода. В итоге поселения Чепецкой и Родановской культур, население которых, возможно, частью «померло с неядения», а частью бежало в другие районы, прекращают свое существование. Таким образом, по нашему мнению, Верхнее Прикамье, как и Чепца превращаются на рубеже тринадцатого-четырнадцатого веков в относительно безлюдные территории. С вышеописанными событиями, как нам кажется, связано и отсутствие в восточной литературе дополнительных (после двенадцатого века) сведений о посреднической деятельности жителей области Ису на Камском торговом пути. На смену им уже в первой половине четырнадцатого века приходят купцы джулманские – выходцы из нижнего Прикамья тат. Чулман – Кама, изначально лишь ее низовья

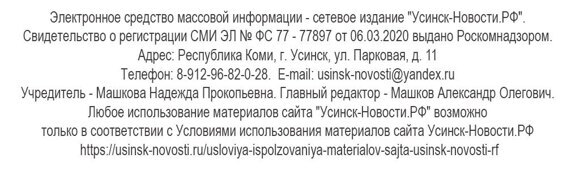
 Создание сайтов
Создание сайтов