Вот обработанный текст согласно вашим инструкциям:
---
**Культовые места саамов в Карелии**
В Финляндии, Швеции и Норвегии саамским культовым местам посвящена большая литература, начиная с описаний их христианскими миссионерами в семнадцатом веке до обобщающих работ современных авторов. Выявлены многие сотни мест поклонения. В своем большинстве это природные объекты — горы, утесы, камни, ущелья, пещеры, гроты и щели в скалах, озера, реки, родники, пороги и водопады, мысы и перешейки. Лишь небольшую долю составляют искусственные сооружения — часть рукотворных сеидов, лабиринты, жертвенные площадки. В отечественной литературе тема саамских культовых мест представлена слабее. Описания священных гор, сеидов и лабиринтов есть в работах Харузина, Визе, Чарнолуского, Золотарева, Гуриной, Титова, Мулло, Куратова и других. Общее количество таких мест невелико, а источники касаются в основном района Кольского полуострова, хотя география памятников шире и включает в себя Соловецкие острова Архангельской области и Карелию. Целенаправленное изучение культовых памятников лопарей на территории Карелии, проведенное в последнее время, позволяет поставить вопросы, актуальные для изучения подобных древностей Фенноскандии.
Первые сведения о существовании лабиринтов на Кемских островах Белого моря встречаются у русских авторов девятнадцатого века. Финский исследователь Пяяккёнен, путешествовавший по северной Карелии в конце девятнадцатого века, отмечал, что в это время еще существовали свежие воспоминания о живших здесь ранее лопарях. Жители деревень на озерах Каменное и Кенто показывали следы от чумов, оленьи ямы, так называемые каменки. На карте, составленной Пяяккёненом, обозначены тридцать пять саамских сеидов. Сеид на мысе Аккониеми он описал как гладкий камень "высотой больше руки и около двух локтей в ширину и толщу", на нем, "будто шапка на голове", лежал камень поменьше. Согласно преданию, на этом месте лопь прокляла "женщину с животом", и считалось, что "если кто камень с камня поднимет, то не будет ему покоя, пока не поставит на место". В предании, возможно, отразились традиции, связанные с культом сеидов, по которым участие женщин, тем более беременных, в жертвоприношениях запрещалось.
Брюсов посетил так называемый Чуманный камень — пятиугольный валун, лежащий на трех небольших валунах, находящийся в двадцати — двадцати пяти километрах западнее озера Евжезеро. Фотография подтверждает искусственное происхождение сеида. Сходный по описанию валун на трех камешках есть на вершине скалы у деревни Высокая Нива в Заонежье. По местной быличке, "его обронил черт, когда нес, и около него всегда чудится".
К саамским культовым местам могла относиться и скала антропоморфного вида на озере Радколье в Заонежье, именуемая Радкольским богом. По существующему обычаю местные крестьяне раз в году, в последнее воскресенье перед Ильиным днем съезжались на остров. Во время праздника молодежь забавлялась тем, что пыталась столкнуть камень в озеро. Это напоминает организованные в свое время христианами по всей Лапландии кампании по уничтожению саамских культовых мест. Во всяком случае, в отношении местного населения к камням как к "нечистым" и "инородным" сказалось представление о саамах как народе, отличном по образу жизни, внешнему облику и верованиям, владеющем искусством ворожбы. В западном Беломорье записаны три предания о превращении в камни "немцев". По преданиям это произошло на островах Кузова, в селе Вирма и на острове Ярославец в Чупинском заливе. "Окаменевшими братьями" считаются три гранитные скалы неподалеку от Ак-ка-порога на реке Винча, близ Полярного круга. Мотив внезапного окаменения людей характерен для фольклора Кольских саамов, именно так объясняют происхождение многих сеидов.
Во второй половине шестидесятых годов сотрудник Карельского государственного музея Мулло посетил острова Кузова и открыл там два больших культовых комплекса, мелкие скопления сеидов и лабиринт. Ранее, в тысяча девятьсот пятьдесят пятом году им был обнаружен лабиринт на полуострове Красная Луда близ поселка Чупа и осмотрены остатки лабиринта в устье реки Поньгома. Эти памятники он считал саамскими. Позже Манюхин исследовал памятники Кузовов, и им был найден новый культовый комплекс на горе Кивакка близ озера Пяозеро, а Шахновичем — сходный комплекс на горе Воттоваара в средней Карелии.
К настоящему времени в Карелии выявлены четыре крупных культовых комплекса, два лабиринта, несколько групп сеидов и около десяти одиночных сеидов. Крупные комплексы расположены на вершинах островов Русский и Немецкий Кузова и на горах Воттоваара и Кивакка. Последние относятся к числу самых высоких гор Карелии, а вершины архипелага Кузова абсолютны по высоте в Карельском и Архангельском Беломорье. Все эти памятники находятся в зонах горной тундры и лесотундры. Каждый памятник включает множество сложений из камня. Каменные конструкции в комплексах расположены на наиболее высоких точках рельефа, где они заметны издали и откуда открывается широкий обзор местности. Такая привязка памятников и отдельных конструкций, по-видимому, отражает психологию создателей комплексов. Наделенные одушевленными качествами камни или духи, живущие в камнях, могли наблюдать и контролировать события в подвластном им мире, а древнее население — заручиться поддержкой воображаемых покровителей.
Саамский сеид — это идол из камня, реже — из дерева. Размеры сеидов колебались от небольших камней до громадных валунов и плит. Рукотворные сеиды, как правило, состоят из большого валуна-основы с подведенными под него снизу или положенными сверху небольшими камнями. Изредка встречались и более сложные фигуры из нескольких камней. Деревянные сеиды имели вид врытых корнями вверх деревьев или столбов. Существовали деревянные идолы и с антропоморфными чертами. Лучше прочих пока изучены культовые сложения на Кузовах — архипелаге из пятнадцати небольших скалистых островов на полпути между устьем реки Кемь и Соловецкими островами. Границами культовых памятников на них служат с юга, запада и востока крутые скальные склоны, с севера — большие валуны-сеиды. На Русском Кузове выявлено триста шестьдесят сложений, на Немецком — триста тридцать девять. Комплексы занимают относительно ровные, покатые к северу — по ходу движения ледника — вершины. Их площадь приближается к семи и восьми гектарам соответственно. Сеиды составляют примерно девяносто один процент от общего числа конструкций, на долю каменных куч приходится около восьми процентов, овалов — около одного процента. Среди сеидов преобладают валуны с "головками" — одним, реже двумя-тремя или даже более камешками наверху. Меньшие по численности группы образуют сеиды с "ножками" — это валуны, поставленные на один-шесть мелких камешков, и сеиды, имеющие и "головки", и "ножки". В пределах памятников встречаются и естественные камни, которые могли использоваться в культовых целях.
Несколько каменных куч выстроено на самых высоких точках вершин. Возможно, они являются своего рода структурными центрами. За исключением двух, каменные кучи небольшие, диаметром до полутора метров, а высотой менее одного метра. Диаметр овалов, сложенных из небольших камней, менее одного метра. Кладки не носят следов прокала и обжига и поэтому не могут рассматриваться как остатки очагов. В центре трех из пяти овалов Немецкого Кузова лежит камень. Для сооружения комплексов использовали камни с береговой полосы и с поверхности вершин. Хорошо заметна граница между культовыми пространствами, густо насыщенными камнями и почти полным отсутствием их вокруг. Близость комплексов по многим параметрам позволяет говорить о некоей упорядоченности, а может быть, и планомерности в сооружении памятников. На архипелаге есть и более мелкие скопления сеидов; два из них содержат около трех десятков сеидов всех трех видов и каменные кучи. В общей сложности на Кузовах выявлено около восьмисот сложений. Комплексы на вершинах Кивакка и Воттоваара могут быть охарактеризованы только в общем виде. В культовом комплексе на Кивакке сложения наиболее многочисленны на самых крутых северном и восточном склонах горы и в центре, вокруг двух небольших озер с обрывистыми берегами. На Воттовааре основное скопление сложений зафиксировано также у вершины горы близ озерка. В обоих случаях преобладают сеиды, а среди них — сеиды с "ножками". Сеиды с "головками" малочисленны. Есть здесь и овалы, а на Кивакке и каменные кучи. Одиночные сеиды найдены на самой высокой горе Карелии Нуорунен и горе Поссосора.
Сложные геологические процессы четвертичного периода в Карелии затрудняют разграничение естественных и искусственных объектов. Сеиды с "ножками" могут возникать в результате деятельности материковых льдов и выветривания. Из многих сотен валунов Кивакки и Воттоваары к бесспорно искусственным относится меньшая часть сложений.
С саамами традиционно связывают лабиринты — сложные конструкции из множества камней, выложенных в виде сходящихся к центру дорожек. На всем Севере Европы их около пятисот, на Белом море около сорока, из них два в Карелии. Первый — северный лабиринт расположен у границы с Мурманской областью, на небольшом полуострове у мыса Красного, связанном с последним узкой перемычкой, затопляемой во время прилива. Такая топография типична для части лабиринтов Севера. Второй лабиринт находится на острове Олешин в архипелаге Кузова. По форме и размерам он близок первому. По сведениям Мулло, в устье реки Поньгома также существовал лабиринт, разрушенный в послевоенные годы.
Карелия — юго-восточная окраина ареала культовых саамских памятников — выделяется именно культовыми комплексами с разными типами сложений. В Финляндии, Швеции и Норвегии сведений о существовании таких комплексов нет. Наиболее частыми объектами поклонения там были каменные сеиды. Из ста семидесяти двух каменных сеидов Швеции два намеренно оббиты, иногда встречаются сеиды с "головками". Манкер, основываясь на данных Генетца, Кастрена, Фельмана по Русской Лапландии, предположил, что искусственные сеиды были больше распространены у восточных саамов. Многочисленные конструкции из камня известны на Соловецких островах. По своему составу они отличны от зафиксированных в Карелии, здесь много каменных куч и лабиринтов. На острове Большой Заяцкий, на вершинах Сигнальная и Сопка, на мысе Лабиринтов разнообразные сложения образуют скопления. Сведения о культовых местах саамов на Кольском полуострове немногочисленны, но получены от самих саамов и содержат ценную информацию о связанных с ними поверьях и обрядах. По рассказам саамов Экоостровского погоста, на острове на озере Имандра был особо почитаемый сеид. Ему приносили в жертву столько оленьих рогов, что они полностью загромождали этот небольшой остров. Древнее саамское капище находилось на мысе Шарапов Наволок на полуострове Рыбачий. Здесь высокую скалу рассекает глубокая трещина, на дне которой виднелось множество рогов и костей животных. Недалеко от озера Вакозеро, в тундре Калгойв на наволоке Калгнярг в качестве жертвы оставляли привязанного оленя. Был ли тут сеид, саамы не говорят. Упоминается также старинное капище в Печенге, на осенних стойбищах, где приносили в жертву оленей, овец, рыбу, чтобы все это возвращалось в изобилии на землю. Еще одно святилище известно в тундре Сидовар, недалеко от озера Чалмозеро. Само озеро представлялось саамам похожим на человеческое лицо. Сюда приводили жертвенных овец и оленей, взамен просили хорошую погоду, но больше всего сюда обращались за помощью во время нашествия чуди. На реке Туломе было несколько жертвенных мест, ныне забытых. В дореволюционных источниках неоднократно упоминается Божья гора близ озера Имандра, к которой саамы относились с большим почтением, и Пент-камень около реки Печенги, в тундре Учойв. По словам саамов, это был окаменевший колдун-нойда, во власти которого было послать хорошую или дурную погоду.
Визе собрал сведения о сеидах в окрестностях озер Лово-зеро и Имандра. На небольшом озере Сейдозере самым почитаемым считался сеид — скала с трещиной, подобная человеческой фигуре. В ней видели окаменевшего "начальника", которому приносили в жертву что-нибудь из пищевых припасов, рыбу. Здесь никогда не кричали, опасались черпать воду. Три камня на берегу озера Сейдозеро считались окаменевшими колдуньями: матерью с двумя дочерьми. На западном берегу озера Умбозеро существовал настоящий сеид — хлебный камень, а в юго-восточной части озера — другой камень, который уже не почитают. По словам саамов, это не сеид, "а так, ворожба одна". Информацию Визе по озера Имандра дополнили краеведы Комарецкая и Алымов, описавшие семнадцать одиночных сеидов. Это — обычные камни, с которыми связаны различные предания, обычаи и поверья. Золотарев посетил священную гору на берегу озера Бабьего, в тридцати пяти километрах от Сосновского погоста. Она заметно возвышалась над окружающей тундрой. Место жертвоприношения можно было определить по верхушкам оленьих рогов, торчащим из-под снега.
Чарнолуский считал, что культ сеидов широко бытовал на Кольском полуострове, о чем свидетельствует большое количество географических названий с корнем sett. В устье реки Иоканги саамы показали ученому сеид в виде большого валуна, похожего на лопарскую тупу. Несколько культовых памятников отмечено и на реке Поной. Близ бывшей деревни Каменка есть фигура высотой один и три десятых метра, сложенная из больших камней, рядом с ней — овал из голышей с камнем в центре. Этот памятник считался у лопарей очень древним. У озера Вуллиярви высится особо почитаемая гора Сейдпакх — по-саамски "гора сеидов". На скале, обособленной от основного массива, стоит огромный валун. У подножия горы находятся два каменных столба в "три человеческих роста" с антропоморфными чертами. Саамы считали их своими предками и именовали стариком и старухой. Отождествление некоторых утесов с предками вообще характерно для саамов. Их называли Акка — мать, бабушка, старуха — и реже Атче — старик. Такие памятники есть в Швеции и Норвегии. Небольшая информация о сеидах на реках Вороньей и Печенге собрана археологами. В сказках упоминаются сеиды на островах в Ловозере и Экоострове, в Белой губе на озере Имандра, на озерах Щучьем и Выдозеро, морских островах Айновы и Кильдин. Происхождение многих сеидов в сказках связывается с внезапным превращением людей в камни.
В зарубежных исследованиях, проведенных в северо-западной части Кольского полуострова, близ границы с Норвегией и Финляндией, упоминаются одиннадцать священных гор, двенадцать озер, водопадов и источников, два скалистых утеса, два острова и одно дерево или деревянный сеид.
В Мурманской области известно десять лабиринтов в устьях рек Поноя, Умбы, Харловки, Вящины, Варзины, близ города Кандалакша на небольшой высоте над уровнем моря.
Вопрос о времени возникновения культа сеидов сложен и не решается вне связи с саамским этногенезом. Скорее всего он зародился у древнейшего населения Фенноскандии, где камень составляет существеннейшую часть ландшафта, и был воспринят пришлым финноязычным населением, а затем стал частью общей саамской культуры. Обилие скал, камней, которые в ходе природных процессов приобретали необычную форму и местоположение, пробуждало фантазию и, возможно, желание копировать, воссоздавать вновь некоторые природные феномены.
О большой древности культа сеидов свидетельствуют и археологические материалы. Отдельные каменные орудия были найдены на территории культовых комплексов на горе Кивакка и острове Немецкий Кузов в Карелии, вершинах Сопка и Сигнальная на Соловецких островах, сеиды — в Съелакерке, Сайво, Въиек-сакоски в шведской Лапландии. В Унна Сайво вместе с куском обколотого кварцита и точильным бруском найден фрагмент асбестовой керамики, в Сейтъярви кусок асбестовой керамики лежал вместе с куском кварца и несколькими просверленными дисками слюды. Тип керамики не указан, но в целом время существования асбестовой посуды в северной Швеции лежит в промежутке между вторым тысячелетием до новой эры и первым-вторым веками новой эры. Хронологические ориентиры дает и высота расположения памятников над уровнем моря. С первого тысячелетия до новой эры береговые линии Баренцева и Белого морей не испытывали существенных перемещений и имели тенденцию к регрессии. Около рубежа новой эры контуры побережий приближались к современным. Отдельные сеиды и каменные кучи архипелага Кузова находятся на высоте двух-трех метров и поэтому не могут датироваться ранее рубежа новой эры. Здесь и на Соловках найдены и частично обследованы древние поселения, находящиеся в непосредственной близости от культовых памятников — Русский Кузов первый, Немецкий Кузов второй, Муксалма первый, Капорская, Соловецкая первый и Андреевский Скит. Находки и высота расположения позволяют датировать их со вторым тысячелетием до новой эры до примерно рубежа новой эры.
Большинство лабиринтов на территории России находятся на высоте от двух-трех метров до семи-девяти метров. У трех лабиринтов Кольского полуострова археологами обнаружены четыре поселения с асбестовой керамикой первого тысячелетия до новой эры. В Пильской губе Белого моря, в центре одного сооружения была расчищена плита с остатками кострища, в котором лежали кварцевый скребок, отщеп, кальцинированные косточки и фрагмент асбестовой керамики. Следовательно, время раннего функционирования сеидов и лабиринтов примерно синхронно. В Карелии и на Соловках их можно связывать с археологическими культурами периода поздней бронзы — раннего железного века.
Культ сеидов оказался долговечным. У саамов Кольского полуострова он сохранялся и в начале двадцатого века. В тысяча девятьсот двадцать пятом году группа престарелых терских и семиостровских саамов решила втайне приносить жертвы сеидам в надежде, что боги помогут поднять оленеводство и даруют уловы семги. Комарецкая, собиравшая данные о сеидах среди саамов около озера Имандра, отмечала, что новое поколение о сеидах почти ничего не знает, но старики верили в их чудодейственную силу. Подобная информация записана и Золотаревым у саамов Сосновского погоста на Терском берегу Белого моря.
Некоторый материал о позднем функционировании сеидов дает и археология. Близ сеидов у поселка Луостари были обследованы остатки жилища и раскопана каменная клака, возможно "жертвенник". Найдены кусок бронзовой ленты, костяная пуговица, железная рогатина, обломки фарфоровой чашки, оплавленного стекла, множество кальцинированных костей и кованые гвозди.
До последнего времени сохранились пережитки старых культов и у саамов Швеции и Норвегии, где жертвоприношения сеидам совершались несколько десятилетий тому назад.
Время использования лабиринтов короче. Память об их создателях и назначении утрачена. За рубежом эти конструкции в основном датируют более поздним временем, чем в России. Так, из почти ста шестидесяти лабиринтов северной Швеции сто могут датироваться по высоте расположения раньше средневековья. Лабиринты Финмаркена в северной Норвегии отнесены к тринадцатому-пятнадцатому векам.
В Карелии культовые памятники сохраняли свою роль, пока по соседству с ними жили саамы. Для южной, средней и северной Карелии это время различно, поскольку в ходе столетий саамы оттеснялись все дальше на север. Еще по актам шестнадцатого века в западном Беломорье проживала "дикая лопь на Студеном море", в тысяча пятьсот тридцатом году упоминается "лопь крещеная и некрещеная" на реке Шуя. Период пользования культовыми памятниками на Кузовах и Соловках ограничен временем возникновения и становления Соловецкого монастыря — мощного центра православия на Севере России. Несколькими столетиями позже саамами могли еще использоваться культовые памятники в центральной, и особенно северной Карелии, где их поселения сохранялись долее всего. По картам восемнадцатого века, на севере Карелии существовало еще два лопских погоста — Орьезерский западнее озера Ковдозеро и Пяозерский на юго-восточной оконечности Ругозеро. Последний упомянут в тысяча семьсот шестнадцатом году, тогда в нем жило двадцать семь душ лопарей мужского пола в одиннадцати вежах. Окрестности озера Пяозеро периодически посещались саамами и в начале двадцатого века. Здесь расположены обширные ягельники, и сюда для забоя и продажи оленей пригоняли свои стада карелы, фины и саамы. Оленеводство в этом крае исчезло только после тысяча девятьсот восемнадцатого года.
В тысяча девятьсот тридцать шестом году на озере Тавоярви, близ вершин Нуорунен и Уккотунтури при прокладке дороги найден богатый клад серебряных украшений. В тысяча девятьсот пятьдесят третьем году подобный клад обнаружен на финской стороне, близ города Куусамо. Всего в Фенноскандии найдено двадцать таких кладов, датируемых двенадцатым-тринадцатым веками, их считают жертвенными.
Культ сеидов характерен для всей Лапландии, и он был одной из основополагающих черт саамской религии. Он был связан с жертвоприношениями, которые должны были обеспечить поддержку духов или божеств. При обращении к сеиду обычными были просьбы об удачной охоте, рыбной ловле, о помощи в оленеводстве, в путешествии, об излечении от болезни и прочее. Желание навредить другим выражалось редко. Последний мотив встречается в Кольских сказках, когда к колдовству, в частности — к сеидам, обращались за помощью против врагов. По письменным источникам, у лопарей шведской Лапландии жертвоприношения для удачи в оленеводстве упоминаются пятьдесят раз, пожелания успеха в охоте — тринадцать, в рыболовстве — пятьдесят восемь, в путешествии — пятнадцать, о жизни и здоровье — двадцать раз. Жертвоприношения, как правило, совершались по определенному ритуалу с заклинаниями, колдовством, использованием бубна. Размеры и частота жертвоприношений зависели от статуса почитаемого места. В особо почитаемых местах собраны тысячи рогов оленей. По словам лопарей, рога представляли жертвенную символику и клались концами вверх. Жертвовали обычно и те части животного, которые не шли в пищу: копыта, кости, иногда шкуру. После поедания жертвенного животного кости собирали и оставляли возле сейда. От птиц оставляли голову и крылья, от рыб — чешую и кишки. Считалось, что если все кости целы, то мясо легко нарастет. Обряд имел целью воспроизводство и приумножение животных, рыб и птиц. Наряду с дикими животными жертвовали и домашних, а также хлеб, водку, лоскутки материи, пули. За рубежом в одиннадцати жертвенных местах десятого-четырнадцатого веков найдены ювелирные вещи, монеты с проделанными отверстиями, наконечники стрел. Появление этих кладов приходится на пик меховой торговли. В Карелии с жертвоприношениями связаны упомянутый клад с озера Тавоярви и, возможно, отдельные каменные орудия.
Жертвоприношения всегда совершались также в дни традиционных праздников, посвященных определенному божеству: богу грома Айке-Тиермесу, солнца — Бейве или Пейве, охоты — Сторьюнкаре. Известно, что лопари в Торнео и Кеми считали сеиды воплощением именно Сторьюнкаре. Но в целом обычай посвящать идолы высшим божествам не был особо распространенным. Дары либо зарывали в землю, либо клали на специально сооруженный алтарь из дерева. Вдоль дороги к сеиду иногда втыкали ветви деревьев, зимой — хвойных, а летом — березы. Пространство вокруг сеида часто окружалось кольцом из оленьих рогов и считалось священным. Посещали его только с целью принесения жертвы. Жертвоприношения совершались мужчинами, главой семьи или шаманом. У каждой семьи или рода существовали свои сеиды, но некоторым поклонялись целые селения. К местам общего поклонения, по-видимому, относились и крупные комплексы Карелии и Соловков. Многие исследователи связывают сеиды с культом предков. Слова сайво, ситте, сите обозначали имя и душа умершего и одновременно сеиды. Харузин полагал, что вера в сеид, как жилище духа умершего, происходит от первоначального назначения сеида как могильного памятника. По саамским поверьям, связь между камнем и человеком очевидна, о чем уже было упомянуто выше.
Некоторые исследователи утверждают, что сеиды в горах или у озер изображали сайво — духов-хранителей определенной семьи или рода. По саамским представлениям, в священных горах их жило множество, один человек мог иметь до десяти-четырнадцати духов-защитников. Эти духи были как антропоморфного, так и зооморфного вида. Сайво требовали жертв из оленьих стад, а со своей стороны они способствовали оленеводству, охоте и рыболовству, оберегали от опасностей и порчи людей.
Большинство исследователей все же рассматривают сеиды как духов-хозяев определенной территории, от которых зависела удача в промысле. Это мнение подтверждено многими этнографическими свидетельствами.
Сложным представляется и вопрос о том, были ли сеиды божеством или служили лишь его воплощением или жилищем. В источниках есть подтверждения и тому, и другому. По-видимому, старые саамы не делали различий между духовным и материальным, и камень мог быть как богом, так и его жилищем, и посредником для вызова духа при жертвоприношениях. Саамы озера Имандра на вопрос, что есть сеид, в двадцатые годы отвечали: "Сеид есть дух, обитающий в некоторых, большей части приозерных скалах, покровительствующий лопарю в разных его промыслах и обладающий сверхъестественной силой". Многие саамы верили, что сеид необходимо регулярно "кормить", иначе он обидится и покинет место своего обитания.
Сеиды расположены в местах промысловой деятельности, на путях сезонных миграций оленя и морского зверя, постоянных охотничьих и рыболовных угодьях. В этом смысле показательно размещение крупных культовых комплексов: Кивакка и Воттоваара находятся в местах миграции и обитания северного оленя, Кузова и Соловки — морского зверя, гренландского тюленя.
О верованиях, связанных с лабиринтами, достоверных этнографических сведений нет. Некоторые исследователи связывают их с культом мертвых, другие — с промысловой магией или иными обрядовыми действиями, кое-кто рассматривает их

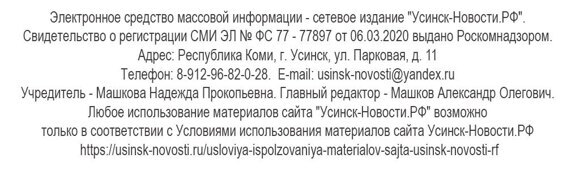
 Создание сайтов
Создание сайтов