Налимов. Некоторые черты из языческого миросозерцания зырян
Приступая к настоящему труду, я наметил себе скромную задачу – дополнить неточную картину языческого миросозерцания зырян. Я не беру на себя смелости сказать, что мой небольшой труд, в совокупности с трудами других авторов, даст точное представление о миросозерцании зырян. Как у меня, так и у других этнографов не было точного материала. Те материалы, какими они пользовались, так разноречивы, так порою туманны, что стоит громадных усилий разобраться в них. Скажу только, что сколько я ни читал сочинений о религиозном миросозерцании зырян, я находил полное отсутствие точных сведений. Настоящий труд я и посвятил заполнению этих значительных пробелов.
Вся вселенная, по верованиям зырян, создана двумя верховными силами: Еном и Омќлем.
В мраке и тумане томился Ен. Одиночество несказанно угнетало его; наконец, он дошел до того, что хотел лишить себя жизни, что и случилось бы, если бы его не спасла встреча с подобным ему существом – Омќлем.
Ен – бог всего лучшего, созданного на земле, он сотворил людей, звезды, солнце, леса и реки, а сам удалился на небо и оттуда любуется на произведение рук своих, не вмешиваясь в мирские дела. Только временами Ен открывает небо и показывает людям свое жилище. Небо тогда загорается разноцветными огнями (северное сияние), и в это время Ен бесконечно добр: исполняет все просьбы людей, каждый смело может просить все, чего хочется, – Ен не откажет ему в своей милости.
Омќль мало похож на своего товарища. Вместо прекрасного неба он предпочитает мрак и туман. Ко всем творениям Ена Омќль относился сначала скептически, но мало-помалу начал подражать ему. Однако Омќль не обладал той могущественной силой, как Ен, и, несмотря на все свои усилия, ничего не мог создать, исключая земноводных, насекомых, лесных людей и водяных (васа). Происхождение болот зыряне тоже приписывают ему. Между прочим, надо отметить характерную черту свойств верховных существ зырян. Сотворив мир, они не вмешиваются в мирские дела созданных ими людей. Они дали им полную свободу действий: делайте, что хотите; мы сделали свое дело, дали вам жизнь и землю. Только Ен, в виде исключения, о чем я уже говорил выше, иногда открывает небо и исполняет просьбы людей.
Таковы Ен и Омќль. Теперь скажу немного о лесных людях, созданных Омќлем. Лесные люди весьма похожи на людей; разница между ними небольшая. У лесных людей пятки ног выворочены (табъя кока); кости их прозрачны, и они легки и быстры на ходу. Лесные люди стоят гораздо ниже людей, но постоянно стремятся стать с ними на один уровень. Говорят, что поводом к этому является частое посещение людьми лесов, где лесные женщины вступают в сношение с ними, и плодом такой любви является человек. Впрочем, на мои расспросы об этом, я получил от зырян довольно туманные ответы.
Лесные женщины, как и мужчины, легки; кости их прозрачны; ходят они по воде, носят распущенные волосы. Вот как описывают их охотники: она является просвечивающейся (видны кости), с матовой бледностью на лице и слабо окрашенными губами. Голос у нее нежный и приятный и исполнен грусти. Поет то тихо, то возвышая голос, то вновь опуская, и от ее пения захватывает какая-то нега, и так приятно и грустно почему-то.
Не все зыряне однако имеют одинаковое представление о лесных женщинах. Некоторые охотники рассказывают, что видели лесную женщину, прыгающую с дерева на дерево. Она с длинными волосами; цвет лица темно-бронзовый, и облик лица некрасив. Все лесные женщины сладострастны и любят сожительство с мужчинами.
По просьбе Омќля, Ен разделил богатства лесов между людьми и лесными жителями; богатства же рек – между водяными и людьми. Лесные жители являются как бы подчиненными людей, причем между ними есть сильные и слабые. Покорить сильных лесных жителей могут только сильные люди, слабых же – слабые. Покоренные духи делались собственностью человека и не могли подчиняться другому до тех пор, пока последний не утрачивал своей силы над ним. Каждый подчиненный человеку лесной житель обязан исполнять приказания последнего, как-то: загонять дичь, зайцев, производить бурю. Надо заметить, что лесные жители имеют избушку и ведут в лесу целое хозяйство. Лесные жители не прочь завести к себе мальчика и заставить его работать на себя: носить воду, колоть дрова и исполнять другие мелкие хозяйственные обязанности. Работает попавший к ним человек до тех пор, пока лесные жители не найдут, что он равноправен им. Выбраться от них раньше срока очень трудно, для этого надо соблюдать следующие условия: не есть их кушанье, постоянно заводить ссоры и ругаться по-русски. Если человек не сумеет этого сделать, то ему дается на двадцать первом году три свободных дня, то есть, когда наступает время набора в солдаты, тогда он является во сне своим родственникам или родным и говорит, где его можно найти. Любят также лесные жители уводить девочек; последние в том только случае могут освободиться от лесных, если при наступлении зрелого возраста, отправившись в деревню, найдут себе жениха.
Лесные жители вообще существа добрые, но иногда любят подшутить над людьми. Отвести зверя, испортить сети – все эти проказы доставляют им удовольствие. Приведу для примера небольшой рассказ охотника о том, как лесной человек спутывал его сети.
Я каждый день, – рассказывает охотник, – находил свои сети спутанными. Говорю товарищу: «Дело неладно». Товарищ взял охотничью собаку и расставил ей задние ноги, а я стал смотреть между ними. Вижу: лесной человек, еще подросток, спутывает мою сеть. Я выстрелил и ранил его в ногу; лесной человек побежал, но кровавые следы, оставленные им, привели нас к избушке. Там мы нашли его родителей, которые попросили нас вынуть сыну пулю. Мы вынули.
Лесной житель, раненный человеком, только в том случае выздоравливает, если его будет лечить человек.
Другое существо, сотворенное Омќлем, водяной (васа). Васа, по верованиям зырян, женщина. Васа хватает и топит мужчин для удовлетворения эротических чувств, причем ее тонкие и холодные, как лед, пальцы впиваются в тело попавшей жертвы. Вместо утопленника она возвращает родным березовую статую.
Этнограф Попов неправильно утверждает, что представление о водяном заимствовано зырянами у русских. Водяные сотворены, по мнению зырян, Омќлем, и утопленницы не превращаются в русалок. Есть даже основание думать, что водяной бывает мужского пола. Зыряне представляют его еще в виде четвероногого мохнатого животного.
Васа требует жертв, каждая по своему усмотрению. Васа Лелятыса (водяная с озера). Лелятыса любит, чтобы ей дарили серебряные кольца. Зыряне не ведут борьбу с васами: они считают их слишком сильными, и им с ними не справиться, а потому они предпочитают исполнять все их требования.
Женщины представляют себе Омќля совершенно иначе, чем мужчины: они его считают злобным, хитрым существом, способным на обман и злодеяние.
В подтверждение приведенных мною фактов, приведу дословный перевод зырянских легенд.
Первая легенда
Туман... Мрак... Нигде не видно ни живого существа, ни растительности; только один голубь, прекрасный сизый голубь летал. Не раз он подавал голос с целью встретить живое создание. Не раз, томимый одиночеством, пытался он броситься с высоты полета и разбиться, и там кончить свое существование.
Вдруг в ответ слышит он отклик, своему подобный – голос человеческий. Помчались навстречу друг другу... Назвались братьями, родными, милыми; посоветовались, – порешили изведать дно мрака и тумана.
Один голубь нашел землю. Другой голубь нашел тину.
Когда первый голубь выпустил из клюва добычу – землю, то около ее частиц стали собираться другие частицы, и скоро она начала принимать вид острова и покрываться растительностью. Тина распустилась.
Зависть закипела у второго голубя; но он затаил ее и обратился к первому с просьбой поработать вместе.
Первый голубь был Ен, существо могущественное; второй – Омќль, существо слабосильное и завистливое.
Все, что Ен созидал днем, Омќль старался портить ночью.
Особое старание Омќль приложил к тому, чтобы испортить человека: мазал его собственной слюной и надеялся его окончательно лишить речи, но только отчасти смог его испортить. Ен заметил недоброжелательство Омќля и прогнал его.
Вариант первой легенды
По другим преданиям, ссора произошла позднее, когда остров был покрыт травой, и два брата, Ен и Омќль, вышли на сенокос.
Вторая легенда
Ен и Омќль разделили сенокос на две равные части.
Ен вышел с долотом; Омќль взял косу. Последний раньше кончил работу и ворвался на сенокос к Ену.
Вариант второй легенды
Ен сумел приготовить косу, а Омќль – долото. Сенокос между ними не был разделен, и кошеная трава составляла собственность работника. Ен накосил больше, но Омќль ночью украл у него сено.
Третья легенда
Ен предложил Омќлю сотворить вместе мир. Омќль отказался, но, когда увидел успехи Ена, попросил дать ему закончить сотворение мира. Омќль сотворил все безобразные, уродливые существа, в надежде, что Ен увидит несовершенство мира и разрушит его.
Ен не мог поправить зло Омќля в виду того, что он до сотворения мира ограничил свои права.
Четвертая легенда
Два брата – Ен и Омќль – решили сотворить мир.
Ен создал человека, солнце, луну, звезды, реки; Омќль в искусстве оказался слабее: создал духов и взялся руководить ветром.
Омќль выпросил для себя часть богатства лесов и рек. Оба создали себе жилища: Ен на небе, вернее даже за небом.
Ен время от времени открывает небеса и показывает людям свое жилище. Тогда небо горит разноцветными огнями (северное сияние).
Пятая легенда
Ен решил сотворить мир. Омќль отнесся скептически к его решению. Но, видя успешность Ена, Омќль упросил дать ему окончить. Ен дал разрешение.
Омќль, по неспособности, создал все уродливые создания и явления.
Шестая легенда
Ен, томимый тоской, решил создать мир. Омќль предпочитал одиночество и мрак без жизни. Ен созидал, Омќль старался вредить.
Вот причина несовершенства мира.
Я считаю необходимым обратить внимание на то, каким образом сотворил Ен человека, по мнению зырян. Если вы спросите зырянина об этом, он скажет: «чужис пуысь-турунысь», то есть «родился от соединения дерева с травой». Если вы обратитесь с таким же вопросом к незаконнорожденному зырянину, он ответит вам то же самое, но в интонации его голоса вы услышите иронию. Один зырянин, одаренный музыкальными способностями и поэтическим даром, даже сочинил песню по этому поводу; точно передать ее на русском языке почти невозможно, но общий смысл таков: «Я, несчастный, скитаюсь по земле, родился от дерева и травы». Далее идут сетования на судьбу. Начинается она по-зырянски так:
Перевод:
Конец чурбана склонившегося дерева и несчастный Парпон.
Собственно, «коньќр» значит: несчастный дух, несправедливо гонимый.
Песня эта, пропетая в кругу крестьян, производила настолько сильное впечатление, что многие плакали.
Зыряне не удовлетворялись одним представлением о земле, – фантазия их влекла дальше. По верованиям одних, вселенная имеет два мира: один мир – наша земля, и есть еще другой (Му). Солнце освещает по очереди каждый. Этим они объясняют происхождение дня и ночи. «У нас светло, значит – другая земля погружена во мрак, и наоборот», – говорят они.
По представлению других, существует три мира. Первый – это наша земля; второй мир находится над нашей землей и третий – под ней. Мир, находящийся над нами, богат фауной; второй мир не так богат ею, но более плодороден. Оба эти мира населены людьми. Характерно в религиозных воззрениях зырян то, что по мнению одних оба эти мира населены такими же людьми, как они; по мнению же других, люди этих двух миров отличаются от простых смертных тем, что они живут без желаний и страстей.
Под влиянием христианства, зыряне стали думать, что в мир, находящийся над нами, переселяются души людей праведников, а в мир под землей – души грешников. Но зыряне до сих пор, по своей природной доброте, не могут помириться с представлением об аде, как о месте наказания за греховно проведенную жизнь.
Нет основания думать, что луна, солнце, звезды почитались зырянами, как божества. Они явления, созданные Еном. По-зырянски солнце – «шонты» или «шонды», – слышится не то буква Т, не то Д, – значит: «погрей». Звезды – «кодзув»; – значит: «кто мерцает». Звезды быстро движутся. Радуга – «ќшка-мќшка» – значит: «корова с быком». Зыряне думают, что радуга олицетворяет собою корову и быка из «лучшего» мира, находящегося над ними. Луна – войпель,– значит: «ночное ухо». По верованиям зырянских женщин, солнце обладает свойством разрушать все замыслы злых духов и, когда заходит, посылает луну оберегать людей.
Теперь я хочу сказать несколько слов о различии религиозных воззрений мужчин и женщин у зырян.
Как я думаю, громадную роль в этом случае играет различие занятий как тех, так и других. Мужчина, как более сильный, должен добывать пропитание жене и детям, а поэтому большую часть зимы он проводит на охоте. Женщина же исполняет домашнюю работу и воспитывает детей.
Зыряне, по природе, народ впечатлительный. Находясь зимой среди векового леса, где царствует полная тишина, где лунное сияние придает природе особенную таинственность и каждый малейший шорох явственно слышен, зырянин поддается обаянию природы. Ему кажется, что с ветки на ветку прыгает женщина: вот она манит, зовет его и страстно протягивает к нему руки. Долгая разлука с женой раздражает чувственность охотника, и он идет в объятия лесной красавицы. Конечно, это галлюцинация, в которой зырянин не может разобраться.
Что касается религиозных воззрений у женщин, то я должен оговориться, что христианство, занесенное русскими вместе с различными русскими поверьями, оказало гораздо большее воздействие на женщин, чем на мужчин. Наблюдая действительную жизнь зырян, я заметил, что женщина, как по своим духовным, так и физическим свойствам, гораздо слабее мужчин и склонна прибегать к заступничеству более сильного существа, – вот почему они быстро усвоили дух христианства и понятие о Боге, как существе, способном защитить и помочь. Женщина, занимаясь детьми, часто в своих воспитательных приемах прибегала к усмирению разыгравшегося ребенка при помощи запугивания злыми духами. Часто доходило до того, что ребенок после таких запугиваний плакал и начинал бояться, тогда мать успокаивала его и рассказывала сказки своего сочинения, – например, о том, что придет луна и прогонит этих злых духов. Ребенок успокаивался, а мать помимо своей воли начинала все сильнее и сильнее верить своей сказке, и таким образом поддерживалось представление о луне, как способной прогонять злых духов.
Суеверие, занесенное русскими, сыграло значительную роль в жизни зырян, особенно среди женщин. Теперь они уже верят в домовых: женщина не пойдет в двенадцать часов в баню; она не оставит после себя воды, боясь, что духи будут мыться после нее; она не позволит идти в баню в этот день и на порог бани положит пас (знак), дающий знать, что в баню идти нельзя. Она верит, что если женщина украдет у другой женщины из-под курицы яйцо, то это равносильно похищению солнца. Мужчины относятся ко всему этому скептически и даже насмешливо.
Зыряне с течением времени наблюдали, что земля истощается, что бревна, служившие прежде по пятидесяти лет, теперь служат только двадцать пять, и они пришли к заключению, что в мире все мельчает: у них установился взгляд, что в конце концов все выродится. Один из обладающих, по мнению зырян, даром пророчества сказал: «Наступит время, когда будете землю палкой мерить и на этих клочках землю пахать; придет время, – и лес будут мерить палкой». Тяжелое впечатление производит это предсказание на зырян, но мужчины примирились с ним; женщины же протестуют; они говорят, что Омќль и раньше был злым, что зло это всегда существовало, что все это дело его рук, и он по своей злобности хочет погубить людей, но Омќль этого не достигнет. Надо сказать, что женщины обыкновенно и сами этому не верят, а только стараются утешить себя различными подобными объяснениями.
Интересно рассмотреть вопрос, почему у зырян сложилось известное мнение и отношение к ветру.
Ветер, по разъяснению одних зырян, происходит вследствие полёта невидимого; по разъяснению других – его производит дух или даже внук женщины духа. Внук – это существо довольно глупое: мечется без всякого толку из стороны в сторону. Когда зырянину необходим ветер, он говорит: «Тќлќ, тќлќ, бабыд кулiс» («Ветер, ветер, бабушка умерла»). Когда же они хотят уменьшить порывы ветра, они говорят: «Тќлќ, тќлќ, бабыд эз кув» («Ветер, ветер, бабушка не умерла»). Такое странное обращение к духу ветра означает следующее: когда зырянин говорит: «Ветер, ветер, бабушка умерла», он думает, что дух летит на похороны и этим производит ветер; когда же зырянин говорит, что бабушка не умерла, он успокаивает духа, и тот смирно сидит на месте.
Это обращение к ветру осталось еще и теперь и употребляется даже зырянами, стоящими высоко в культурном отношении среди своих собратьев.
Когда буря захватит зырянина на охоте в тайге и заставит его несколько суток сидеть в избушке, он начинает говорить заклинания, обращаясь к духу, но не обращаясь к Ену, так как тот пассивно относится к сотворенному им миру.
В заключение скажу, что приведенные мною сведения не отражают ни всего миросозерцания зырян, ни всех причин, вызвавших такое оригинальное миросозерцание, но я имею в виду еще возвратиться к этому вопросу, и, между прочим, сообщу легенду о паме Шыпиче. В этой легенде вылились все стремления зырян, вся их душа, вообще весь их идеал человека.
Прежде чем приступить к положению легенды о паме Шипиче, я считаю необходимым пояснить значение слова «пам», а также сказать несколько слов о личности Шипичи и отношении к нему зырян.
В исследовании этнографа Попова мы находим слово «пам». Но значение, приданное этому слову, нельзя считать правильным. Попов называет Пама жрецом бога Йомы, причем по его словам, олицетворяет собою злую и хитрую бабу. Насколько я знаю, бога Йомы в настоящее время в представлении зырян, совершенно не существует, по крайней мере о нем не осталось ни одной легенды. Только около Усть-Сысольска я слышал это имя наряду со сказками о Еруслане Лазаревиче, Полкане и другими, в которых видное место играет баба-яга. Вероятно, под влиянием этих сказок баба-яга появилась у зырян, где получила имя Йомы.
Памом, по мнению зырян, называется человек, обладающий громадной силой воли и могущий повелевать стихиями и лесными людьми; кроме того этот человек обладает хорошими душевными качествами; его энергия, его познания уходят на борьбу с врагами зырян. Одним из таких памов был человек по имени «Шипича». О нем есть легенда. Интересно, что существует много вариантов этой легенды, но еще поразительнее то, что один и тот же зырянин сегодня расскажет вам одну вариацию, завтра другую, смотря по тому, в каком настроении находится рассказчик.
причитаниях. Я приведу одно из них, которое пришлось слышать на похоронах маленькой девочки. Оно принадлежит одной молодой женщине, которая недавно потеряла мужа, затем ребенка:
Зачем, зачем улетела, Добрая, милая девушка, Дитя середины моего сердца! (Сьќлќм шќр) Зачем ты оставила светлую, радостную землю? Моего ли зла испугалась!? Моей ли сквернотой боялась оскверниться!? Моей ли жесткой руки испугалась!? Зачем же улетела? Милое, красивое лицо спрятала? Теперь сырой землей раздавят твое милое, красивое лицо! (Ныр-вом, то есть нос, рот) Услыхала ли ты голос своего отца и улетела? Он ли соскучился о тебе, мой милый муж? Он ли боится моего худого нрава, И хотел избавить тебя от страданий–мучений, И взял тебя, милое, дорогое дитя? Когда я так плоха, зла, Лучше бы мне умереть! А тебе жить, расти, дочери отца! О зачем, зачем разбили мое сердце, И оставили меня одну, несчастную, скитаться по земле? Лучше бы мне умереть!
Здесь мы видели, что родители могут вызвать в загробный мир несчастных детей, чтоб избавить их от страданий или доставить себе утешение. Обратно: могут ли дети вызвать в загробный мир своих родителей, на это ответить пока мы не можем.
Усопший не только вызывает в загробный мир своего несчастного ребенка, изнывающего в нужде и нищете, но часто и заступается за своих несчастных родных, причем жестоко мстит их обидчикам. Малейшее невнимание, оказываемое им, может вызвать его гнев. После знакомых нам выше упомянутых похорон маленькой девочки несчастная мать приглашала своих родственников и знакомых пить чай. Многие отнекивались: время было страдное и дорогое для крестьянства. Но стоило женщине сказать, что, обижая ее, несчастную вдову, своим невниманием, отказывающиеся обижают и ее покойного мужа, – как все, точно один человек, вошли в ее дом и забыли на время про сенокос. В храмовой праздник зырянин посетит вдову и детей своего друга или своего родственника. Здесь его не будут обильно угощать ни пивом, ни водкой. Зато он сам доставляет усопшему (другу, родственнику) удовольствие. Большим грехом считается оскорбить память усопшего. Неодобрительно отозваться о покойнике значит совершить великое преступление. Кого зырянин хочет назвать злодеем, он про него скажет: «Он готов ругать усопших».
Усопший является духом-покровителем своего семейства. Его влияние на живых громадно. Однако, не все усопшие имеют одинаковую силу, а только следующие три категории усопших: первая – кто много при жизни сделал добра, тот и из загробного мира может делать добро на земле. Он и в тот мир уносит свое доброе сердце. Вторая – кому много приносят даров, тот может сделать много добра. Дары наполняют любовью сердце усопшего. Третья – добрая жизнь живых доставляет удовольствие усопшему. Он радуется радостью живых. Радость наполняет его сердце любовью, и усопший может сделать много добра.
Много внимания всех, кто занимался изучением зырян, обращает на себя «орт». До сих пор «орт» точно не изучен. Разные ученые его не одинаково понимают. Я не намерен дать критического очерка по в# Налимов. Зырянская легенда о паме Шипиче
Прежде чем приступить к положению легенды о паме Шипиче, я считаю необходимым пояснить значение слова «пам», а также сказать несколько слов о личности Шипичи и отношении к нему зырян.
В исследовании этнографа Попова мы находим слово «пам». Но значение, приданное этому слову, нельзя считать правильным. Попов называет Пама жрецом бога Йомы, причем по его словам, олицетворяет собою злую и хитрую бабу. Насколько я знаю, бога Йомы в настоящее время в представлении зырян, совершенно не существует, по крайней мере о нем не осталось ни одной легенды. Только около Усть-Сысольска я слышал это имя наряду со сказками о Еруслане Лазаревиче, Полкане и другими, в которых видное место играет баба-яга. Вероятно, под влиянием этих сказок баба-яга появилась у зырян, где получила имя Йомы.
Памом, по мнению зырян, называется человек, обладающий громадной силой воли и могущий повелевать стихиями и лесными людьми; кроме того этот человек обладает хорошими душевными качествами; его энергия, его познания уходят на борьбу с врагами зырян. Одним из таких памов был человек по имени «Шипича». О нем есть легенда. Интересно, что существует много вариантов этой легенды, но еще поразительнее то, что один и тот же зырянин сегодня расскажет вам одну вариацию, завтра другую, смотря по тому, в каком настроении находится рассказчик.
Трудно определить, в какую эпоху появляется этот зырянский герой. Одни из зырян говорят, что Шипича был до крещения их, другие, что он первый был основателем города Усть-Сысольска. Можно думать, основываясь на некоторых легендах, что Шипича, действительно первый поселился на этом месте, где стоит теперь город Усть-Сысольск.
Теперь, я сообщу перевод одной из вариаций легенды о паме Шипиче.
Легенда о паме Шипиче
В низовьях реки Вычегды сидело несколько отважных, добрых удальцов, знакомых с опасностями и привычных проводить время в грабеже. Сердца их ожесточились. Они наслаждались страданиями жертв, попавших к ним в руки, безжалостно и даже с восторгом бросали детей и девушек зырян в пламя, но одно имя пама Шипичи приводило их в бешенство, они сознавали свое бессилие перед ним, а глаза их при воспоминании о Шипиче, загорались гневом и бешеной яростью.
Пам Шипича водворился при самом впадении реки Сысолы в Вычегду. Шипича был вдов и имел двух взрослых дочерей, которые сильно любили его. Не одну сотню русских пам утопил в реках, защищая зырян от их нападения. Этим он доставлял большое наслаждение васам, которые бросались на жертвы и прикладывали своим горячие, полные страсти, щеки к холодным губам утопленников, но, не находя удовлетворения своей страсти, они бросались от одних трупов к другим, и наконец в бешенстве впивались в их тело, своими тонкими, хрупкими и как лед холдными пальцами. Вода относила вас от их жертв. Счастлив был пам, но одно только иногда терзало его, это то, что он не мог постигнуть Ена. Многое Шипича знал, духи повиновались ему, стихии были ему подвластны, но неизвестность будущего и непонимание Ена мучили его. Иногда Шипича доходил до того, что для того, чтобы забыться, он бросался в объятия своей любовницы и в страстных объятиях заглушал вопросы, так мучившие его. Но и здесь его иногда преследовали эти роковые вопросы.
Однажды, после победы над новгородцами, пам, с гордостью и радостью на лице, вышел из своего жилища и сказал: «Мне подвластны стихии природы, мне послушен ветер, вода по моему повелению изменяет течение; она шумит, кружась, охватывает врагов и отдает их на жертву васам, и они, как черви, ползут к падали. Я достиг спокойствия среди зырян; нет более стонов, раздирающих мои слух, нет новгородцев, и зыряне спокойно могут жить и наблюдать жизнь природы».
Но сомнение заползает в душу Шипичи; оно точит его душу, и невыносимая душевная боль заставляет его обратиться к объятиям любовницы, но увы – он не находит желаемого спокойствия. Любовница утешает его, она говорит: «Скажи, скажи, знаменитый пам, чего тебе не достает? Тебе послушны духи; ты никому не платишь дани. Все покорно тебе. Ты свободно ездишь по озерам. Лесные люди гонят в твои сети белок. Заяц бежит на разложенный тобою костер. У тебя много золота и серебра».
И отвечает ей пам:
«Я несчастлив. Меня постоянно мучит чувство одиночества; более – меня не веселит пыл мести и стон новгородцев, так неожиданно для себя кончающих жизнь при встрече со мною. Меня давит небо, леса и я мечусь в безысходной тоске среди всех вас, где мелко и невыносимо гадко, и, что всего тяжелее, это – сознание моего бессилия перед могуществом Ена. И вот в этом состоянии я ищу утешения на твоей груди, но приходит минута, и я, еще более обессиленный и жалкий в своем состоянии, бегаю и рву в бешенстве на себе волосы. Если бы даже Ен мне дал могущество настолько, чтобы я мог переменить все окружающее, то и тогда бы я не знал, что мне делать, так как мне неизвестна конечная цель создания мира, и я задал бы себе вопрос: к чему мы живем? – если бы не было стонов от обиды, глупого самодовольства от победы, и если бы мы, не получив ответа, кинулись убивать друг друга, единственно для того, чтобы избежать этого ужасного вопроса».
На что любовница отвечала: «Успокойся дорогой пам. Смирись духом. Откажись от своего могущества». Но Шипича не хотел сделаться простым смертным; он говорит: «Пройдут года, все здесь изменится, но я один буду неизменным наблюдателем жизни, и смерть не коснется меня!». Любовница пама настойчиво убеждает его сделаться простым смертным. Она говорит: «Ты много уже пожил, много встречал восходов солнца, ты уже насладился сладкими поцелуями. Придет время, и мы вместе покинем мир. Но если даже мне суждено умереть одной, я буду тенью приходить тебе и ползать у твоих ног, чтобы ты не забыл меня». Шилича ответил: «Нет, я не могу наградить тебя бессмертием, а сам не могу покинуть этот мир. Я, благодаря своему знанию, отгоню от себя свою смерть, так как не в силах променять сияние дня, шелест листьев и плеск волны на смерть».
Между тем на высоком берегу Вычегды поселился другой пам (имя утрачено), друг Шипичи.
Давно этот пам не сзывал зычным голосом духов; – давно они уже не рассказывали ему о мирских делах. Пам решил сделаться простым человеком и заняться сельским хозяйством.
Однажды он был на работе, как вдруг услышал голос сына: «Отец, отец, по реке против течения плывет лодка, никто не гребет, а лодка подвигается». В это время раздался голос с лодки: «Сусло стой!» – и сусло остановилось. Лицо пама выразило гнев; мощной походкой направился он к берегу и громко закричал: «Сусло стой, так и лодка стой». Лодка остановилась, точно сорок сильных рук ухватились и держат ее. Три дня и три ночи стояла лодка, и сусло не капало; и поныне бы лодка новгородцев стояла, если бы они не сумели умилостивить пама. Новгородцы умоляли его говоря: «Пам, могущественный из людей, ты отпусти нас, молодых и неопытных, пошутивших над тобой, великим памом. Ты сам был молод, и горел желанием, показать старикам свое умение властвовать над духами. Так не лишай же нас радости жить».
Величественным жестом пам пригласил к себе новгородцев. Сусло закапало в чашки (таси), и новгородцы подъехали к берегу. Пам любезно встретил гостей и спросил их, куда они держат свой путь. Новгородцы отвечали: «Мы едем убить пама Шипичу. Только теперь и можно убить его, так как он пирует с любовницей, а потому не имеет власти над духами». На эти слова пам с усмешкой сказал: «В моей власти – позволить держать вам путь дальше. Я друг Шипичи и могу приказать своим духам преградить вам путь, но благодаря тому, что я давно покинул мирские дела, я не предприму ничего. Я сделался простым смертным и только оставил себе власть призывать духов при угрожающей мне опасности».
В это время верные Шипиче духи принесли весть об угрожающей ему опасности. На другой день новгородцы подошли к берегу (где теперь стоит собор Троицы). Это место было недалеко от жилища Шипичи.
Шипича призвал своих слуг и велел им наполнить водой чан. Погружением в воду он вновь приобретал силу, потерянную в объятиях любовницы и, насколько погрузит он свое тело в воду, настолько погрузится лодка новгородцев и вновь никогда не поднимется. Но слуги Шипичи, напуганные властью своего пама и его бессмертием, порешили погубить его. И вот по утру не оказалось у пама ни капельки воды, а враги подходили к берегу. И не один десяток ножей вонзили в тело пама; но он с улыбкой встречал удары. Кровь лилась из его ран два дня. Рука разбойников устала наносить удары; но жертва трусости и измены не издала ни одного крика, и с уст страдальца не сорвалось ни одного упрека. Дочери видели весь ужас страдания и сжалились над отцом. Решив, что не так смерть страшна, как испытываемые отцом мучения, обратились с просьбой к убийцам – разрезать серебряный гашник отца. И лишь только разрезали гашник, улетела жизнь Шипичи.
Не стало пама. Новгородцы обратились к дочерям пама с мольбой выбрать из их шайки себе друга жизни. Дочери пама с презрением отвергли все предложения; но смерть отца причинила им такие сердечные муки, что они не захотели воспользоваться бессмертием, дарованным им отцом, и гордо ответили: «Мы последуем за отцом».
Ночь сделалась светлее дня. Высоко к небу поднялись столбы пламени: то горел дом Шипичи. Дочери решили скорее погибнуть, чем остаться жить без отца, – они подожгли дом и погибли в пламени, а вместе с собой погубили и убийц своего отца. Так погиб пам Шипича и его дочери.
Другие варианты легенды
Я передал легенду о паме Шипиче, слышанную мною от одного лица. Другие зыряне передают легенду точно также, но с изменением некоторых мест. Эти варианты я и хочу привести. В одной вариации Шипича не является жестоким мстителем, но только ограждает свою личность от нападения. Так, когда новгородцы подошли к берегу, чтобы убить Шипичу, он намеревался погрузиться в воду, а вместе с этим новогородцам показалось, что дом Шипичи находится в воде.
Есть еще вариации, где убийцами Шипичи являются не новгородцы, но какая-то шайка разбойников, которые грабили зырянские поселения, и только Шипича умел оградить зырян от их набегов. Одно остается неизвестным в легенде, кто были слуги Шипичи: были ли это пленные русские или зыряне. По одним преданиям, это были русские, которые, зная тайну Шипичи, при приходе новгородцев, изменили ему и не налили в чаны вод; по другим преданиям, это были зыряне, которых угнетало величие Шипичи и они воспользовались первым случаем, чтобы погубить его.
Также существует не одинаковое представление о любовнице Шипичи. Некоторые зыряне рассказывают, что любовница изменила Шипиче вместе с слугами. Она просила Шипичу дать ей бессмертие; Шипича отказался; тогда она стала умолять его сделаться простым смертным, но и на это предложение Шипича не согласился; тогда уязвленная любовница решила отомстить ему и примкнула к заговору слуг.
После смерти Шипичи его любовница вышла замуж за одного их новгородцев, убивших Шипичу; некоторые старики уверяют, что последних потомков любовницы и этого новгородца они помнят. Последние потомки приблизительно умерли в тысяча восемьсот сорок пятом году.
Сохранилось предание о кончине друга Шипичи. После того как он не предупредил Шипичу об угрожающей ему опасности, раскаяние так и мучило пама, что он решил покончить с собой, отказавшись от своего бессмертия.
В заключение скажу, что памы вырождаются, как и все в природе, так что последний пам уже не обладал бессмертием и не все духи ему повиновались. По рассказам, он существовал лет сто тому назад.
Так перевелись памы в зырянской земле.
«Мор» и «Икота» у зырян
В данное время трудно дать ясное представление о «Мор», так как легенд не осталось; только из некоторых народных фраз я вывожу заключение, что злое начало «Мор» существовало.
Когда зырянин сердит, то он говорит: «Мор лыяс» – это значит: «Мор, подстрели!». Этим зырянин хочет сказать, чтобы «Мор» ниспослал болезнь.
Когда зырянин болеет, он тоже не знает, почему заболел, и говорит: «Мор лыис», то есть «Мор подстрелил». Если зырянин болеет и испытывает сильное мучение, он в отчаянии говорит: «Мор ос бост». Мор не берет.
Таким образом из этих фраз, очевидно, уцелевших из легенд о Мор, как наиболее яркие места, я вывожу, что Мор было злобное существо, ниспосылающее болезни.
Характерно, что фразы: «Мор лыис», «Мор лыяс», «Мор ос бост» – говорят большею частью женщины или мужчины-неудачники, мрачно настроенные.
Мужчинам, не признающим традиционных верований своих предков и, несмотря на это, отличающимся удалью и другими хорошими качествами, добродушно настроенные зыряне говорятъ: «Море морт» – человек Мор, человек, похожий на Мор. Есть еще фраза: «Морос чуж и» – дай Мору пинка, – это говорится людям неприятным и ленивым.
Когда у зырянина родится уродливый ребенок, он говорит: «Икота чужем», то есть рожденный от Икоты, или лицо Икоты. Этим он хочет сказать, что ребенка испортил злой дух – «Икота», который послал уродство. Другие зыряне говорят, что ребенка подменил Икота, хотя, по представлению иных, подменой ребенка занимаются особые духи или лесные люди.
В прежние времена старались заставить Икоту, если думали, что он подменил ребенка, взять обратно своего ребенка. Делали это следующим образом: ребенка клали в корыто и сверху накрывали другим таким же; слегка постукивали сверху (по корыту) топором, угрожая Икоте зарубить его ребенка.
Испуганный дух брал своего ребенка, боясь, чтобы его не зарубили, а зырянину возвращал подмененного.
Вера в подмену ребенка злыми духами с каждым годом слабеет. Лет десять тому назад в моем селе «Вильгорт» – способ застращивания Икоты еще существовал; последней женщиной была Тихо-Дарья, которая занималась этим; а в деревне «Дон» это практиковалось четыре года тому назад. Здесь я привел все известные мне данные о «Mopе» и «Икоте».
Загробный мир по верованиям зырян
Религиозное мировоззрение зырян служило предметом изучения некоторых этнографов. Они приложили много труда, но все их усилия не могли дать окончательного разрешения вопроса, и результаты, добытые ими, более чем скромны. Они нам не только не дали ясного и точного представления об общем мировоззрении зырян, но не был ими затронут и целый ряд частных вопросов. Так, мы почти ничего не знаем о загробном веровании зырян, об их культе предков, о пережитках анимизма и тотемизма. Неудача исследователей зависела не от личных качеств и не от пренебрежительного отношения к тому или иному вопросу. Современные этнографические материалы добываются с большим трудом, и содержание их все-таки весьма скудно. Письменных же памятников, которые бы осветили прошлое зырян, почти нет. На опросы исследователей зыряне отвечают довольно неудовлетворительно.
Только долгая совместная жизнь с зырянами, участие в повседневных заботах, обрядах и тому подобное дают мне некоторую возможность восстановить картину верований зырян о загробном мире и о душе человека. Тем не менее и в моей работе много пробелов. Здесь прежде всего надо принять во внимание, что сами зыряне не имеют цельного и стройного представления о душе и о загробной жизни. Различные слои населения различно смотрят на это. А это уже значительно затемняет общую картину мировоззрения зырян.
Зырянское слово «горт» означает «дом» и «гроб». Весьма возможно, что некогда зырянину незачем было различать эти два понятия. Дом для зырянина есть место, где он находит отдых и покой после трудов жизни, и где сосредоточена его религиозная и семейная жизнь. Гроб служит ему тоже местом отдыха уже после смерти, куда он возвращается, утомленный с охоты или рыбной ловли, и тоже домом, с которым связана его религия и его семья. По верованию зырян, смерть есть не что иное, как прямое продолжение земной жизни.
Душа, как только вылетает из своего тела, начинает летать около него. Она враждебно относится к живым. Старший из семьи при последнем дыхании умирающего закрывает ему глаза. Особое лицо приглашается вымыть тело покойника, причесать его. Когда оденут его, вдоволь поплачут над ним и выразят свое горе, тогда начнут хлопотать по устройству похорон и поминок, а душа покойника, видя это, смягчается. Она в течение всего времени, пока гроб стоит в дому, остается у своего тела. Вместе с гробом она отправляется на могилу, на место нового жительства. После похорон она снова приходит в прежний дом, где усопшему и душам умерших его родных и друзей устраиваются поминки. Тем временем в доме после похорон в известном, строго определенном месте вешают полотенце, которым таинственно присутствующий покойник вытирает свое лицо, после того как умоется. Трогать это полотенце считается большим преступлением до истечения точного срока в сорок дней. Иначе усопший может дерзкого человека наказать смертью. На похороны не все идут. Одна из родственниц (обыкновенно сестра) должна остаться дома. Она обязана встретить души усопших, если они придут раньше, чем живые успеют вернуться с похорон. Бели никто не встретит души усопших, то они могут обидеться. Покойник, только что умерший, в течение сорока дней живет дома, а не уходит в могилу. Души же остальных усопших тотчас после поминок расходятся по своим могилам.
На сороковой день устраиваются торжественные поминки и проводы покойнику. В этот день двигается процессия из дому к могиле. Священник выходит из дома усопшего с пением, но не впереди, а женщины вслед за ним начинают жалобно плакать. Они просят покойника не гневаться. Спрашивают, почему же он оставляет их дома? Чем они не угодили ему? Зла они не хотели ему сделать; обидеть его могли только по невежеству и своей глупости; хвалят его за его достоинства; просят покойника навещать их дом. Во время этой процессии старший дома идет впереди всех и несет гостинцы: пиво, пироги, «шаньги», «соченя», – все это идет на пользу духовенства. Раньше, как уверяют старики, эти гостинцы оставлялись на могиле. Были ли довольны усопшие поминками, можно узнать следующим образом: остатки поминального обеда «лы-сем»: (буквально: «кости–чешуи») отдают собакам: если последние охотно едят, то это означает, что покойники остались довольны.
С этого дня местом своего постоянного жительства покойник выбирает могилу, гроб. Изредка покойнику на могилу приносят угощение и просят его покушать «ру» (то есть пар) кушанья. Сами кушанья не оставляют на могиле: они поступают или в пользу духовенства или обратно уносятся домой.
Не так давно еще в городе Усть-сысольске, как уверяют старики, на могилах оставляли кушанья для покойников. Только резкие протесты духовенства и проказы мальчишек, которые весьма охотно убирали все то, что оставалось на могилах, заставили зырян отказаться от этого обычая. Теперь чаще всего зырянин приглашает покойника к себе в дом. Для этого он идет на могилу и говорит: «Пойдем». Точно так же зырянин, отправляясь в баню, обращается лицом на кладбище и зовет покойника попариться. Если крестьянин сеет, он просит усопших дать хороший урожай: «Сетќй бур во», то есть «дайте хороший год», при этом он глаза молитвенно обращает туда, где покоятся кости усопших.
Старики так дорожат родной могилой, что боятся уходить далеко от родины и умереть на чужбине. Душа, по их верованию, не уходит далеко от своего тела: где тело похоронено, там поблизости и душа живет. Вследствие этого душа зырянина, кости которого далеко покоятся от костей родственников, может и не встретиться с душами последних в загробном мире и будет тосковать. Душа, по верованию зырян, живет внутри черепа. Это мне известно как из личных опросов зырян, так и из целого ряда рассказов, наблюдений над жизнью зырян и тому подобное. Между прочим, есть верование, что не похороненные черепа останавливают прохожих и просят погребения. По другому варианту, непогребенные черепа пробегают дорогу, издают своеобразный свист «тюргќ», и если кто не похоронит такие
Творцом вселенной, по верованиям пермяков, является Ен, существо весьма доброе, живущее на небе. Создав мир, Ен предоставил человеку полную свободу и не вмешивается больше в дела людей. Жизнь человека и природы идет по определенному закону. Но этот закон не предрешает хода истории человечества, ни природы, ни даже отдельной личности. В верованиях пермяков нет судьбы, рока. Человеку ничего заранее не предопределено. Вся его жизнь будет зависеть от личных действий, от тех или иных его проступков. Только в детстве его здоровье зависит от поведения матери, отца и других лиц, состоящих с ним в духовном родстве. Эти лица, обязанные охранять здоровье ребенка, несут ответственность за него.
Пермяцкое религиозное мировоззрение не знает злых духов, враждебных человеку, подталкивающих его на преступление и дурные поступки. Свои действия пермяк считает исходящими от его собственной воли. Поэтому, разговор пермяков лишен таких выражений как «черт попутал», «лукавый смутил». Нет у пермяка и ангела хранителя, защитника от несчастий, направляющего его на добрый путь. Пермяк не любит внушений чужой воли. Все поступки определяются его волей. Совершением греха, преступлением, нарушением прав другого человека, животного несоблюдением известных гигиенических правил он может вызвать ряд бедствий, отражающихся не только на здоровье его самого, его семьи и его экономическом благосостоянии, но способном сказаться и на качестве урожая, росте других растений, всей природе. Эти бедствия исходят не от воли какого-нибудь божества, а зависят от свойств самой природы. К числу заразных начал, по верованиям пермяков, относятся некоторые выделения человека; зараза вырабатывается также после сексуальных отношений, наконец, она образуется в природе естественным путем помимо воли и действий человека.
Задачей пермяка является изолировать себя, дорогих ему лиц и других существ от соприкосновения с заразой. Много хлопот достав# О верованиях и быте зырян
Пока она еще находится на земле (то есть не на новой планете), облекается в плоть. Но другие так смело и решительно этого не утверждают. Все зыряне признают, что душа на другой планете имеет такое же тело, какое имел усопший при жизни. По верованию зырян, душа представляет что-то раздельное от тела. Она нуждается в пище и жилище: без пищи и крова она чувствует холод и голод. Душа питается «ру», то есть паром кушанья, а не самим кушаньем. Поэтому зырянин, большею частью, приглашает души усопших отведать горячие или холодные кушанья, которые дают пар. Зырянин никогда не позволит приглашать «вошйыны» (то есть прийти покушать) усопшего к тем блюдам, которые ему не были милы на земле, а в постные дни не предложит скоромных кушаний. Итак, зыряне верят, что души усопших принимают реальную часть пищи.
За гробом душу ждет возмездие, которое значительно зависит от совершенных на земле поминок. Поминки устраиваются в интересах как живых, так и усопших. Живые стараются умилостивить сердце усопшего, особенно врага. Они боятся своим невниманием вызвать гнев усопшего. Обиженный усопший насылает на живых несчастья, иногда уходит преждевременно на другую планету и тем лишает живых своего покровительства. Поминки избавляют усопшего от голода, холода, дают ему бодрость, делают его сердце добрым, сострадательным. Тогда он, довольный и радостный, разгуливает по полям, лесам, помогая живым, радуясь их радостью. Злого человека поминки избавляют от наказаний, какие он испытывает за гробом. Обыкновенно злой человек вынужден блуждать по болотам. Его туда загоняют другие усопшие. Злой человек и за гробом строит козни, старается вредить живым. Добрые усопшие заступаются за живых: окружают мстительного усопшего, отрезывают ему путь к его жертве и, наконец, окончательно загоняют его в болото. Приношениями, дарами можно умилостивить сердце этого человека. Тогда он делается добрым, и его принимают к себе добрые усопшие. Усопшие наказывают другого усопшего, если последний обижал беззащитных родственников этих усопших. Его загоняют в чащу лесов. Самым тяжким преступлением считается украсть «мушуд», то есть счастье земли. Для этого вор берет горсть земли с чужой пашни и говорит: «Доброе счастье, последуйте за мной, теперь давайте мне хороший урожай!» Такого преступника совсем не принимают в загробный мир; он является к живым, плачет и рассказывает о своем великом грехе.
Как усопший человек, так и умершее животное из загробного мира может отомстить живому человеку за все обиды, мучения, какие ему нанес последний. За гробом и умерший зырянин не избавлен от мести умершего животного, которого он обижал. Это верование создало особые правила, как нужно обращаться с животными, как искуплять перед ними свою вину. Я мельком здесь коснусь этого вопроса (подробно ниже). Если зырянин ударит прутиком корову, то он не должен есть молоко в течение трех лет. Если он не отбудет этого наказания, то корова ему отплатит за гробом, но как? На это уже зырянин не может ответить. Он не имеет права убить лошадь, как она ни дряхла. За нарушение этого правила лошадь проклинает своего хозяина, и другие лошади больше не будут служить зырянину «верой, правдой!». Они будут часто болеть, страдать теми или иными пороками, скоро будут умирать, чем и будут толкать зырянина на путь нищеты. Это продолжается до тех пор, пока зырянин не получит прощения. Самым ужасным преступлением по отношению к животным считается украсть корм у лошади из-под носа. За такое ужасное преступление вор будет вечно барахтаться в смоляном озере. Он попадает туда следующим образом. Вор переправляется на другую планету, как указано раньше, через смоляное озеро по шатающемуся бревну. Лошадь, которая пасется на лугах, подбегает, ржет и говорит: «Переходи, если ты не крал корму из-под моего носа». Вор падает прямо в озеро.
Что касается блаженства усопших, то оно, по верованиям зырян, ограничивается чувствами доброго сердца, творящего добро на земле. А потому все вышеуказанные три категории усопших, творящих добро, испытывают за гробом и состояние, близкое к блаженству.
Человек, по верованию зырян, не занимает исключительного положения в природе. Не он один имеет «лов», жизнь, душу, ее имеют животные и растения. Животные и за гробом продолжают свое существование. Правда, в настоящее время не сознается зырянами, что растения тоже способны продолжить свою жизнь за гробом; но возможно, что некогда эти верования были более сознательны. Но и сейчас на сохнущее дерево смотрят, как на умирающее, на живущее, как на имеющее «лов», жизнь, душу. Зыряне резкой границы не проводят между животным и растительным царством. Вся природа делится у зырян на живую и мертвую.
В царстве животном виднейшее место для зырянина занимает собака. Она у зырян пользуется большим почетом, как покровительница зырян. Собака стережет зырянина, борется с лесными людьми, злыми духами и так далее. Она одна в состоянии видеть злых духов. Впрочем, зыряне находят, что не все собаки способны видеть их, а только те, собаки, у которых сильно выражены надбровные дуги, по форме похожие на вторые глаза. Зыряне таких собак называют «четырехглазыми». Почитание собаки обусловлено многими строгими правилами. Охотникам предписывается накормить собаку с котла «рач», раньше чем самого себя. И сейчас еще охотники перед едой первую ложку ячменной каши подносят собаке, давая ей понюхать. Этим зырянин выражает, что он отдает предпочтение своей собаке и как бы раньше ее кормит, чем самого себя. Хозяин, убивающий свою собаку, вызывает из загробного мира ее гнев и месть. Она оттуда «ёрќ» (проклинает) его. Проклятие собаки на зырянина отзывается так: три поколения собак отказываются служить злодею-хозяину. Бывает, что хитрый зырянин более и не держит собак. Но он в данном случае не избегает мести своей собаки. Она натравит хищных зверей на скот этого зырянина. За дурное обращение при жизни собака тоже мстит своему хозяину. Она воет и этим вызывает злых духов, которых она просит повредить ее хозяину.
Не только собаки, но и другие животные, оскорбленные зырянином, могут вредить ему. Охотник напрягает все свои усилия, чтобы не оскорбить душу убитого им зверя. Он пред убитым зверем отвечает и за те оскорбления, какие ему нанесут посторонние лица. Поэтому всякого убитого зверя, убитую дичь скрывают от любопытных взглядов и взглядов детей. Шкуру с зайца охотник снимает ночью, чтобы чужие не могли видеть зайца и оскорбить его. Снятие шкуры с белки происходит еще более чинно: охотник тоже прячется, сначала он снимает кожу с черепа, голый череп дает понюхать собаке; затем снимает кожу с остальной части тела и снова дает понюхать белку собаке; потом подбрасывает белку в воздух, на сажень высоты приблизительно, а собака должна ловить белку на лету. Ели она удачно поймает, с аппетитом съест, то это указывает, что лов в будущем будет хорош. Рыболов боится оскорбить пойманную им рыбу. Ее тщательно прячут от любопытных. Не позволяют смотреть на нее даже любимым детям, чтобы те, по своей глупости, не посмеялись над рыбой и не оскорбили ее. Хороший рыбак пойманную им рыбу сначала несколько оглушает обухом топора, а не убивает ее окончательно; потом ее кладет в лодку и говорит: «Бейся, бейся, плещись! Зови отца, мать, деда, бабушку, прадеда, прабабушку, всех родственников. Не то на том свете одна без родных скучать будешь: не с кем будет тебе резвиться, играть! Зови всех!» Обыкновенно, рыба, по верованиям зырян, послушно зовет всех своих родственников в загробный мир, и те охотно идут в сети рыбака. Но если рыба оскорблена рыболовом, то она гонит своих родственников от сетей обидчика.
Зверь, дичь, рыба тщательно оберегаются от посторонних взглядов только некоторое время. Затем с ними обходятся, как с обыкновенными предметами. Зыряне прячут пойманных ими зверей, дичь, рыбу от взглядов любопытных и по другим причинам. Любопытный может высказать удивление по случаю хорошего лова охотника, рыболова, может «горќдны», то есть крикнуть удивленно, а это отражается на последних. Охотник лишается счастья охоты, искусства меткой стрельбы, иногда становится на время полоумным, пока не вылечится. Это верование очень распространенное, и при поверхностном наблюдении можно заключить, что охотники скрывают количество своей добычи по этой одной причине. На самом же деле, крик удивления не всегда так скверно отражается на охотнике. Белокурый зырянин страдает только от крика зырянина-брюнета, и встреча с ним приносит белокурому зырянину неудачу. Это верование зыряне объясняют следующим образом: «Крови у нас не подходят, не дружатся» (по-зырянски: Вир оз лќсяв).
Крик же удивления белокурого человека не вредит белокурому, и их взаимная встреча обоим приносит только удачу. Небольшой смех мальчика оскорбляет зверя, дичь, рыбу, которые могут и отомстить охотнику, но крик и смех белокурого мальчика по поводу удачного лова, добычи не отнимают счастья охотника; встреча с таким мальчиком охотнику приносит одну удачу. Особенно сильно вредят зырянам люди с черным цветом кожи или с большими, неподвижными стоячими глазами.
Собака является покровительницей зырян-мужчин, но не женщин. Женщины не чтят собаки. Они находят, что собаке не следует давать больше хлеба, чем у нее свободного от шерсти места на носу. Некоторые основания этого можно видеть в следующей легенде, не признаваемой, однако, мужчинами.
Ен (творец вселенной) создал первого человека беспомощным ребенком. Омќль (брат Ена, родоначальник зла) завидовал ему. Омќль всеми силами старался повредить человеку, так как человек является лучшим произведением Ена. Ен поставил собаку караулить человека-ребенка. Омќль приходит, ласкается к собаке, просит, умоляет ее позволить ему поласкать человека. Собака не подпускает Омќля близко к человеку. Омќль обвиняет Ена в жесткости, несправедливости: «Ты служишь верой, правдой Ену, а он тебе не дал шубы, и будешь ты по зимам мерзнуть». Омќль снова ласкается к собаке, просит, умоляет ее позволить поласкать человека и обещает собаке подарить шубу. Собака была создана без шерсти. Она за шубу позволяет Омќлю немного поласкать человека. Омќль мажет человека слюной. Оттого человек стал слюнявым и сопливым. Приходит Ен, упрекает собаку в неверности и наказывает ее: «Человек ежедневно будет давать тебе столько хлеба за твою верность, сколько чистого места у тебя на носу». Есть много вариантов этой легенды. В общем, по содержанию все они сходны. Эта легенда не отражает в себе древнего верования зырян. Здесь уже сказалось влияние на зырянах других народов. Человек, по верованию зырян, не был создан Еном. Он сам произошел от соединения дерева и травы. Как бы то ни было, до сих пор мужчины и женщины неодинаково смотрят на собаку и неодинаково чтят ее.
Женщина стоит ближе к царству растительному, чем животному. Ее защищают от злых духов скатерть (по-зырянски «пызан-дќра») и ячменный хлеб («иднянь»). Женщина ищет спасения от злых духов следующим образом. Она постилает скатерть на стол, разрезает ячменный хлеб (теперь употребляется и ржаной), сама же садится за стол. Злые духи не могут пройти через скатерть и хлеб. Приведу один рассказ, относящийся к таким случаям. Во время цветения ржи одна женщина из деревни Чит пошла полоскать белье на ржу. «Пќлќзнича», находившаяся в воде, страшно обиделась и закричала: «Как ты смеешь своей грязью поганить воду?» – при этом бросилась на женщину. Женщина – в бегство. Пќлќзнича – за ней. Женщина прибегает домой, постилает скатерть на стол, разрезает хлеб и просит их (скатерть и хлеб) за себя поговорить с пќлќзничей. Хлеб спрашивает пќлќзничу: «Кто ты?» и, не дождавшись ответа, начинает перечислять свои страдания: «Меня сжали (резали), сушили, молотили, снова сушили, между двумя жерновами растирали, пекли в печке. Испытала ли ты такие мучения?! Смеешь ты еще сердиться на нашу хозяйку!? Скатерть последовала примеру хлеба. Пќлќзнича ничего не могла ответить; только она сердито крикнула женщине: «Сумела ты жить!» – и удалилась. Зыряне признают «лов» – жизнь, душу за ячменем, льном и другими растениями (как сказано выше). Как усопший, сделавший при жизни много добра, приобретает большую силу в загробном мире и может помогать живым, так хлеб и скатерть за свои добровольные страдания приобретают силу гнать злых существ от человека и избавляют его от многих несчастий.
Через растение, реже через животных зыряне избавляются и от разных болезней. Происхождение некоторых болезней, как оспы, тифа, зыряне приписывают злому существу: это существо в виде женщины является к кому-либо из зырян во сне и говорит: «готовьтесь, я приду» («виччысьќй, ме тiянќ локта»). Испуганный зырянин ждет, что кто-нибудь из его семейства заболеет. Пробыв в одном доме, сколько считает это нужным, дух переходит в следующий дом. Как только дух удалится, больному делается лучше. Иногда перед отходом злой дух благодарит хозяев, если они ему угодят, и говорит, куда переселяется. Бывает, что злой дух говорит, чем его можно умилостивить; но это очень редко. Таким образом, угодить злобному существу составляет тайну, которая передается из поколения в поколение. Угождать в большинстве случаев надо так. Когда в доме есть больной, воспрещается стирать белье, производить стуки, пьянствовать и петь песни, в доме должна быть абсолютная чистота. Если злобному духу не сумеют угодить, то, рассердившись, он может попортить лицо. Зыряне не только угождают злым духам, вызвавшим болезнь, но стараются предупредить приход злобного духа. Для этого, как мы уже сообщали, вешают горностая над дверью, предварительно сняв с него шкуру; жгут ветки и ягоды можжевельника; приносят из лесу палки известных деревьев, обыкновенно «ловпу», то есть ольху. Больного лечат зыряне не только тем, что угождают злым духам, но часто от многих болезней они стараются избавиться тем, что хотят просто прогнать злого духа, вызвавшего болезнь. Характерны приемы, которыми зыряне выгоняют злобного духа. Они это делают так: вокруг комнаты, где лежит больной, родственники ходят с доской или поленом и бьют им по стенам, говоря: «чур ки буди бурд» то есть «чур ки буди выздоравливай» или еще так: больного слегка похлопывают по спине и говорят: «чур ки буди бурд висьќм вќтлам», то есть «чур ки буди выздоравливай, гоним болезнь». Более радикальным средством считается бить по стенам не поленом, а палкой, которая только что привезена специально из лесу. Известные деревья, как «ловпу», то есть ольха, более способны гнать злых духов, другие – менее. Можжевельник и его ягоды прогнать могут злого духа только тогда, если их жечь. Также хорошим приемом, излечивающим болезнь, считают следующий: просят кого–либо из знакомых, прошедших большое расстояние, а то и странника, войти к больному и, не говоря ни слова, подуть на него. Или еще так: кто-либо из родственников, увидев пришедшего издалека человека, идет к нему навстречу и подает ковш воды, странник берет воды в рот и идет к больному, затем брызгает на него изо рта струю воды. Все это совершается в глубоком молчании или же говорят обычное: «чур ки буди бурд». Дуновение странника и обрызгание им водой больного приносит пользу последнему, как говорят зыряне. Это явление они объясняют так. Человек, который проходит мимо многих деревьев и ручьев, очищается. Свойством очищать обладают и деревья, и текучая вода. Очистившийся человек приобретает свойство лечить больных, а на языке зырян это означает гнать болезнь или злых духов. Съедобные гостинцы, привезенные издалека, приобретают целебные свойства. Зырянин, прежде чем съест такой гостинец, им трет себе губы и говорит: «Губы, губы, не надувайте, не обманывайте, не чешитесь напрасно». Затем продолжает:
Через сколько деревьев прошли, Через сколько ручьев, рек прошли, Пусть все худое, гадливое, скверное осталось там. Дайте же мне доброе счастье и здоровье.
Пермяки
Пермяки – народ финского племени. Вместе с зырянами они составляют один народ коми, комi войтыр, комi отiр, как они сами себя называют. Народ коми находится в близком родстве с вотяками, вместе с которыми составляет восточно-пермскую группу Финского племени.
Пермяки живут в Пермской губернии, северной части Чердынского уезда, в Соликамском уезде по реке Иньве и ее притокам и в нескольких селах Вятской губернии. Общее число пермяков доходит до ста девяноста тысяч.
Доисторическая жизнь пермяков может быть восстановлена отчасти только на основании исследования лингвистического материала и археологических данных. Исследование финно-угорских языков, к группе которых принадлежит и зыряно-пермяцкий язык, показало, что финно-угры жили некогда рядом с индо-иранцами, в те времена, когда финно-угорские языки составляли одно целое, или по меньшей мере когда различие между ними было весьма незначительно. Все финно-угорские языки имеют слова заимствованные из индо-иранского языка. Особенно много таких общих заимствованных слов встречается в языках мордовском, черемисском, зыряно-пермяцком, вотяцком, вогульском, остяцком и венгерском. Заимствования эти указывают на весьма древние формы индо-иранского языка, когда еще сохранился конечный s. Таковы заимствования зырянами слова vќrkas «росомаха», морд.-мокш. virgas. Зырянские слова ozyr, ozer, вотское uzyr, вогульское oder, oter указывают также на более древнюю форму нежели исторические иранские формы. До сих пор не удалось точно установить, из какого языка заимствованы эти слова. Возможно, что это был какой-нибудь индо-иранский язык, не оставивший прямого потомка. Индо-иранские влияния имеют важное значение для определения прежнего местожительства финно-угров, которое должно было находиться гораздо южнее теперешнего. Заимствования из индоиранского языка являются материалами для изучения культурного состояния древних финнов. Заимствованными являются названия металлов (золота, железа) из области скотоводства название быка, из области земледелия – сошник. Из общественных отношений зырянами-пермяками заимствованы слова: князь, богатый. Из области религии зыряне-пермяки ничего не заимствовали. Но другие народы финского племени заимствовали название Бога, финское juma, венгерское jo (основа. Jova), вогульское jomas, остяцкое jem; мордва заимствовала pavas.
На основании лингвистического материала можно заключить, что прафинны, составлявшие еще одно целое, занимались уже земледелием, скотоводством, умели доить скот, приготовлять масло, ткать, возводили постройки для себя и скота, имели полог для спанья. Вообще, прафинны стояли уже на довольно высоком сравнительно уровне культуры.
Из других народов оказали некоторое культурное влияние на пермяков-зырян и вотяков чуваши. Это влияние происходило еще тогда, когда пермские племена жили в соседстве и в тесных сношениях между собою. Пермяки-зыряне населяли и левый берег Камы до самого Уральского хребта, а на юге их местожительство простиралось до теперешней границы Пермской и Уфимской губерний, возможно, что и дальше. На это указывают многочисленные названия рек, озер, урочищ, без труда объясняемых из пермяцко-зырянского языка.
Пермяки-зыряне и остальные восточные финны пришли в соприкосновение с русскими довольно поздно, гораздо позже, чем западные финны. В восточно-финских языках не встречается таких заимствований, которые указывали бы на древнюю форму русского языка, тогда как такие заимствования имеются в западно-финских языках.
Новгородцы столкнулись с народом коми (зырянами-пермяками) сравнительно рано, на что указывают некоторые летописные указания. В одиннадцатом веке они уже брали дань с печорцев. Акты говорят, что Новгород до тысяча четыреста семьдесят первого года считал Пермь (Зырянскую и Пермскую землю) своей волостью, но фактическая власть его кончилась гораздо раньше. Знаменитый зырянский Пам-сотник, противник Стефана Пермского, просвещавшего зырян в тысяча триста семьдесят шестом–тысяча триста девяносто седьмом годах, жаловался на Москву, откуда идут «дани тяжкие и тиуны приставницы». Но Москва, взимая дань с Перми Великой, вынуждена была признавать ее до тысяча четыреста семьдесят первого года волостью Новгорода, хотя в то же время князья московские в некоторых документах (с тысяча четыреста сорок девятого года) титуловали себя князьями Пермскими. В тысяча четыреста семьдесят первом году значительная часть Перми Великой отошла к Москве. В тысяча четыреста семьдесят втором году Москва завоевала верховья Камы. Войска под предводительством князя Федора Пестрого и Гаврила Нелидова разрушили Искар, Покчу, Урось, Чердынь, взяли в плен пермских князей Коча, Бурмата, Мичкана, Зырана и Михаила Чердынского. В числе защитников этих городов находилась и Новгородская дружина. Интересен список, захваченной и посланной тогда в Москву добычи – шестнадцать сороков соболей, двадцать девять поставок немецкого сукна, три панциря, шлем и две булатные сабли. Ни Новгород, ни Москва по завоевании Перми Великой не вмешивались во внутренние ее дела, сохраняли за ней ее самоуправление и национальных князей. Впервые в тысяча пятьсот пятом году был смещен пермский князь в Чердыни и заменен московским воеводой. Но Москва не решалась посягнуть на самоуправление пермяков. Воеводы и их тиуны не могли сами разъезжать по селам и деревням и собирать дань, но должны были довольствоваться установленной данью, которая доставлялась пермяками в Чердынь. Такого рода отношения между Пермью и Москвой продолжались довольно долго, до самого конца семнадцатого века. Но судьба части пермяков сложилась более печально. Иньвенские пермяки подпали в крепостную зависимость от Строгановых.
Правление Перми носило вечевой характер, отличалось отсутствием исполнительной власти. Большую роль среди пермяков играли Тодыс', отличавшиеся праведной жизнью, которые руководили религиозным и общественным бытом. Роль и значение пермяцких князей «ќксыр» до сих пор мало выяснены. Они во всяком случае не несли судебных функций и руководили защитой городов во время нападений извне. В настоящее время пермяки живут в бревенчатых избах, обыкновенно больших размеров и высоких. Пол устраивается на достаточной высоте над землей и под ним имеется помещение, высотой больше роста человека. Оно сообщается прямо с внутренностью избы, откуда можно в него спускаться по лестнице. Теперь оно большею частию лишено пола, но более старые построим все имеют пол и еще второй ход прямо с улицы. Приблизительно на высоте двух с половиной–трех аршин от пола устраиваются большие полати, от которых до потолка остается такое же расстояние. Но Иньвенские пермяки не устраивают «гобоч выв», возвышенной площадки высотой от пола в два аршина (приблизительно), непосредственно прилегающей к печке и отделенной от полати небольшим расстоянием. Нет по близости полатей и окна.
Пермяцкая изба состоит из двух четырехугольных срубов, соединенных сенями и находящимися под одной крышей. В сени ведет крыльцо, которое заменялось раньше лестницей, состоявшей из одного толстого бревна с зарубками. Теперь обе половины избы служат для жилья. Одна приспособлена для лета, другая для зимы. Но встречаются и постройки более старого типа, характерного тем, что вторая половина приспособлена только для хранения предметов домашнего обихода. Жилая часть называется керку, нежилая куму; последняя в свою очередь состоит из двух этажей, верхнего и нижнего. В верхнем хранятся вещи нужные для повседневного обихода, в нижнем более редко употребляемые и мука. В Пермском крае редко теперь можно встретить курную избу, и печи обыкновенно делаются из кирпича. Пермяцкие избы нового типа имеют четырехскатную крышу, а старомодные покрыты двускатной крышей, укрепленной шеломом, конец которого обработан в виде конской головы с сильно развитой грудью, напоминающей зоб птицы. Такое сочетание не случайно: пермяк намеренно придает таким изображениям смешанные черты лошади и птицы; иногда он изображает лебедя или утку с ушами лошади. Такие изображения имеют религиозное значение. И среди «чудских» предметов находятся бронзовые изображения птиц с ушами.
Внутренность избы пермяка отличается простотой. Мебель состоит из самодельного стола, скамеек и самодельных стульев из обрубков дерева «джек». Хлев у них бывает двух видов: более холодный – «карта» и более теплый «гид». Первый предназначен для лошадей, коров, второй для телят, овец, а в более холодное время в нем держат и коров.
Пермяцкие деревни вообще чисты; около домов посажены березы. Много берез около гумен.
Пища пермяков во многом сходна с зырянской. Густая каша «рок» им была известна, когда финно-угры соприкасались еще с иранцами. «Рок» – густую кашу пермяки-зыряне готовят из ржаной муки. Жидкая каша – «шид» приготовляется из ячменя на молоке «jevvašid» в постные дни без молока az'a šid, который раньше приправлялся дикорастущими растениями. Мясо употребляют в вареном, жареном и печеном виде. Из молока приготовляют сыр-творог. Пермячки славятся искусством печь разнообразные сорта хлеба из ячменной муки. Разнообразные шаньги, приготовляемые из ячменной муки, масла, творога, молока, сметаны, играют большую роль в питании пермяка. Известное кушанье пельмени, которое так распространено в Сибири, является национальным пермяцким кушаньем. Оно по-пермяцки называется пел' нан' (pel' n'an') – хлеб по форме похожий на ухо. Но у пермяков начинкой пельменей является не мясо, а грибы. Пермяки много пьют браги, которая очень распространена по всей Пермской, а частью и Вятской губернии. Иная пермяцкая семья тратила раньше на брагу до двухсот пудов овса. Брага приготовляется из ржаной муки и овса. Она бывает двух видов хмельная и нехмельная. Брага без хмеля не действует возбуждающим образом и, по-видимому, не содержит алкоголя. Хмельная возбуждает, но, по-видимому, все же очень мало содержит алкоголя. От браги пермяк никогда не приходит в «веселое» настроение, что уже бывает с ним после сотки вина.
Одежда пермяков довольно проста. На работе носят лапти, по праздникам и во время более чистой работы сапоги. Мужчины носят рубашку и штаны из самодельного холста, затем зипун также из холста (шабур), а более теплый – самодельного сукна (дукќс). Женщины носят сарафаны из самодельного холста, по праздникам ситцевые. Шубы, сшитые из своих овчин, не представляют ничего оригинального. Молодежь теперь носит пиджаки из материала, приготовленного на русских фабриках. Пояса, ремни для завязывания обуви и чулки часто бывают украшены орнаментом.
Особенно на краю гибели стоят деревни в пять-десять дворов, расположенные на далеком расстоянии от больших сел, особняком, в лесу. В каких-нибудь тридцати саженях начинается здесь уже густой помещичий лес, окружающий деревню. Хлеба здесь не созревают, обитатели леса медведи то и дело нападают на домашний скот. Житель такой деревни находится в безвыходном положении. Арендовать он ничего ни у кого не может – лесные пространства графов Строгановых не сдаются в аренду. Некоторые общества могут, впрочем, арендовать пожни у графа, получая за работу половину сена, и это поддерживает их существование. Но далеко не все крестьяне имеют возможность арендовать пожни. Более строптивым, провинившимся крестьянам отказывают в аренде, и пожни, арендовавшиеся ими раньше, сдают крестьянам других деревень, торговцам и разным разночинцам; охотно цепляются за пожни и мелкослужащие графа Строганова.
Значительное превышение количества пахотных земель перед сенокосными угодьями открывает возможность развития травосеяния, но оно в Иньвенском крае еще плохо развито. Возможно, что это объясняется отчасти недостатком в агрономической помощи. Но есть и другие условия, тормозящие это дело. Иньвенские пермяки не пасут скот. Они пашни и луга городят. После жатвы и до посева скот свободно бродит по полям и пашням. А это неблагоприятно отзывается на полях, засеянных травой. Огородить же такое поле стоит дорого. За право вырубки сотни жердей нужно платить один рубль пятьдесят копеек – два рубля.
Самым острым и жгучим вопросом в Иньвенском крае является вопрос о строевом лесе, топливе и других лесных материалах. Пермяки не могут оплачивать их стоимость, а потому и прибегают к самовольным порубкам. Лес, по их понятиям, Божий, и не может принадлежать отдельным лицам. Но управление именьями графа Строганова держится, конечно, другого взгляда и энергично преследует самовольные порубки. За некоторыми крестьянами числятся штрафы в сто–двести–триста рублей. Взыскать такие огромные штрафы с крестьян невозможно, сажать их в тюрьму также не выгодно. За «неизмеримую» Иньвенскую дачу ее владельцу приходится платить сбор, достигающий огромной суммы, затем содержать лесную стражу. Доход же могут доставлять только местные иньвенские пермяки, экономически обессиленные, живущие натуральным хозяйством, почти без торгового обмена. Раньше давал доход еще Кушвинский завод, но он переживает кризис, и его судьба уже предрешена. Сбыта лесного материала в другие города или заграницу с богатой Иньвенской дачи не производится несмотря на то, что по ней протекает большая река Иньва со многими притоками, вполне пригодными для сплава леса. Это происходит оттого, что Иньва в тридцати верстах от своего устья загорожена плотиной Майкорского железоделательного завода, принадлежащего уже другому владельцу. Только за последние два-три года стала практиковаться выплавка леса, и то незначительная, из Иньвенской дачи. Владелец Майкорского завода нашел возможным пропускать лес через плотину, выпуская его по бревну. Было намерение построить железную дорогу и по ней произвести вывоз леса. Но было подсчитано, что операция эта может окупиться только при сбыте огромного количества лесного материала. Одна фирма изъявляла даже готовность купить весь лес, превышающий в диаметре два-три вершка. Чаша сия пока миновала Иньвенский край.# Пермяцкие верования и быт
Творцом вселенной, по верованиям пермяков, является Ен, существо весьма доброе, живущее на небе. Создав мир, Ен предоставил человеку полную свободу и не вмешивается больше в дела людей. Жизнь человека и природы идет по определенному закону. Но этот закон не предрешает хода истории человечества, ни природы, ни даже отдельной личности. В верованиях пермяков нет судьбы, рока. Человеку ничего заранее не предопределено. Вся его жизнь будет зависеть от личных действий, от тех или иных его проступков. Только в детстве его здоровье зависит от поведения матери, отца и других лиц, состоящих с ним в духовном родстве. Эти лица, обязанные охранять здоровье ребенка, несут ответственность за него.
Пермяцкое религиозное мировоззрение не знает злых духов, враждебных человеку, подталкивающих его на преступление и дурные поступки. Свои действия пермяк считает исходящими от его собственной воли. Поэтому, разговор пермяков лишен таких выражений как «черт попутал», «лукавый смутил». Нет у пермяка и ангела хранителя, защитника от несчастий, направляющего его на добрый путь. Пермяк не любит внушений чужой воли. Все поступки определяются его волей. Совершением греха, преступлением, нарушением прав другого человека, животного несоблюдением известных гигиенических правил он может вызвать ряд бедствий, отражающихся не только на здоровье его самого, его семьи и его экономическом благосостоянии, но способном сказаться и на качестве урожая, росте других растений, всей природе.
Эти бедствия исходят не от воли какого-нибудь божества, а зависят от свойств самой природы. К числу заразных начал, по верованиям пермяков, относятся некоторые выделения человека; зараза вырабатывается также после сексуальных отношений, наконец, она образуется в природе естественным путем помимо воли и действий человека.
Задачей пермяка является изолировать себя, дорогих ему лиц и других существ от соприкосновения с заразой. Много хлопот доставляет пермякам забота о сохранении здоровья ребенка. Взрослые мужчины и женщины, ведущие супружескую жизнь, являются, по верованиям пермяков, не только сами заразными, но и все предметы, соприкасающиеся с ними, считаются пропитанными заразой. При совместной жизни под одной кровлей трудно бывает уберечь детей от соприкосновения с заразой. Но пермяк принимает все меры предосторожности. Даже ночью моют скобку дверей, за которую хватались загрязненными руками после сексуальных отношений.
Во многих пермяцких селах и деревнях детей отправляют в баню раньше мужчин, с ними идут и женщины, но они предварительно обмываются дома, хотя бы холодной водой, чтобы избавить детей от соприкосновения со своей заразой. В банях для детей употребляют особые ее сосуды, которые наглухо закрываются в тех местах, где мужчины моются раньше детей и женщин. Матерям, кормящим грудью ребенка, предписывается строго воздержание от супружеских сношений. При нарушении ими этого правила, они обязаны принять ряд очистительных мер. Забота по охране здоровья ребенка у пермяков лежит, главным образом, не на матерях, а на старых женщинах, бабушках, оставивших уже супружескую жизнь. Но часто принимают участие в охране здоровья детей и старухи не родственницы, отличающиеся особой праведной жизнью и соответствующим для своей роли знанием. Их приглашают в более важные моменты в жизни ребенка – при рождении и заболеваниях.
Пермяки многие заболевания детей, например, разные сыпи, рахитизм, приписывают заразе, развившейся после сексуальных отношений. Зараза эта признается опасною и не только для детей, но и для животных, собак, белок, дичи, некоторых растений, а равно и для охотников. Мужчина-охотник теряет все свои способности, простреленная и убитая им белка не падает с дерева. Собака, соприкасающаяся с ним, заражается от него. Она теряет чутье и другие способности. Появление на охоте нескольких лиц, не соблюдших известного воздержания и не очистившихся водой, вызывает уменьшение количества дичи, пушных зверей и влияет на их качество. Всякая зараза, даже небольшой шум или крик отражаются также, по мнению пермяков, неблагоприятно на цветении ржи. В это время требуется полное воздержание от супружеских сношений, воспрещается стирка, полоскание белья, беление холста (белят холст, постилая на траву), нельзя производить шума, крика. Самое цветение ржи, по воззрениям пермяков, происходит в полдень. В старину они поэтому прятались в полдень по домам, запирали двери, завешивали окна, ложились в полог и молча лежали около получаса. Теперь все это уже не строго соблюдается, но самое явление не исчезло, только внешние черты его видоизменились, приняли иной характер. До сих пор в полдень в пермяцкой земле во время цветения ржи царит полная тишина. В это время нельзя также прикасаться голыми руками до колосьев, нельзя вблизи поля курить табак, громко разговаривать.
Защитницей урожая у пермяков является богиня «Вуншерка» (Полудница), «Оборониха». Она имеет образ женщины, обладает чудными сине-голубыми глазами, напоминающими цветки василька, и белыми как лен волосами. Она низкого роста, не выше ржи, и, когда она прогуливается по полям, ее не видно. Она всегда бывает одета в беленькое платьице, на голове носит головной убор шемшур. Обходит ржаные поля она в полдень и защищает их от проникновения нечистоты, заразы, шума. Такой обход она совершает ежедневно до отцветения ржи. Затем она покидает грешную землю, чтобы снова вернуться в следующем году. Где «Вуншерка» проводит остальную часть года – неизвестно.
Богиня «Вуншерка» является воплощением чистоты, девственности. Вся ее мысль и деятельность направлены к сохранению красоты природы, ее созидательной и производительной силы, гармонии человеческой личности, его радостей. Она не требует от человека ни жертв, ни молитв; радость человека – ее радость, красота жизни – ее красота.
Ссоры, дрязги влияют, по мнению пермяков, на вырождение всей природы и в частности человека. Распри из-за земельных наделов влияют на качество урожая, хлебные злаки чахнут. Сильные же распри, сопровождающиеся неоднократным проклятием и иного рода руганью, влияют и на самую природу; красота ее меркнет. Нарушение прав живого существа не проходит безнаказанно. Виновник так или иначе должен пострадать. Собака, обиженная своим хозяином, может вызвать на него своим воем ряд бедствий. Лошадь, у которой после смерти сняли шкуру, преследует хозяина на том свете, требуя одеть себя. Вор, нарушитель прав других, делается более восприимчивым к заболеваниям. Зараза вырабатывается при совершении преступления и затем усиливается воплями и жалобами обиженного. Вор, преступник иногда долгое время может оставаться не наказанным, особенно когда потерпевшим является человек, не желающий преследовать своего обидчика. Пермяк же часто отказывается от преследований. Хлебные злаки, пушной зверь, дичь, рыба не могут, по его воззрению, быть предметами спора и раздора, от этого они чахнут, вырождаются. Затем пермяк, терпеливо переносящий обиды, приобретает лучшие способности, счастье, здоровье, делается менее восприимчивым к заразе, заболеваниям.
Иногда пермяк, хотя очень редко, желает наказать неизвестного вора, похитившего у него что-нибудь из домашних вещей. Этого он может достигнуть произношением известных слов, при помощи особых, хотя и не сложных магических действий. Но сам пермяк обыкновенно не решается прибегнуть к такому радикальному средству и обращается за содействием к Туну, Тќдыс. Тун, отличаясь известными нравственными качествами, может нагнать болезнь на вора, с целью дать возможность ему задуматься и принести повинную. По возвращении вещи обратно потерпевшему и заявлении о своем поступке, вор получает право на прощение и исцеление, и потерпевший обязан простить вора. Тун теперь уже не играют прежней роли и к ним редко кто обращается.
Религиозное воззрение пермяков неразрывно связано с их социальными воззрениями. Каждый человек имеет право на жизнь и пропитание, и хлеб родится на всех, если же его мало, то все должны терпеть недостаток. Голодающий, по воззрениям пермяков, является человеком обиженным, обкраденным людьми. Его жалобы могут повлиять на качество урожая. Отсюда понятно, почему пермяки так внимательно заботятся о попечении старых, немощных людей и сирот. Есть лица, которые имеют до семи приемных детей. Иные берут несколько приемышей, имея пять-шесть собственных детей. К приемышам пермяки относятся хорошо, как к своим родным детям. Приемыш наследует наравне с родными детьми. Главный контингент приемышей составляют внебрачные дети.
Отношение пермяков к женщинам, акту деторождения связано с известными религиозными представлениями, на первый взгляд изобилующими кажущимися противоречиями. Женщина считается как бы нечистой, оскверненной. Встреча с ней мужчинам приносит несчастье. Она не может пересекать им дорогу. Но, с другой стороны, женщина стоит не только выше мужчин, но и попа и чиновников, поэтому она не должна кланяться им. В течение сорока дней после родов женщина стоит наравне с Богородицей, поэтому она в это время не должна ходить в церковь и молиться. Женщина родившая три раза по двойне, на всю жизнь остается почитаемою. Приведенные данные, кажущиеся противоречивым, легко примиримы. Как уже было сказано, известными дурными поступками человека вырабатывается в природе яд, зараза. Этот яд может быть обезврежен добрыми поступками, добровольными страданиями за благо другого. Женщины, по верованиям пермяков, желая предотвратить опасность прекращения деторождения и таким образом гибели всего человечества, решились идти на добровольное страдание, распределили всю заразу между собой. Поэтому, в известное время они являются носительницами заразы, опасными для окружающих, и в то же время почитаемыми за свои добровольные страдания.
Девушки до супружеской жизни считаются как бы нейтральным полом. Они не переносят заразы и не почитаются как женщины. Но их с малого детства приучают соблюдать известного рода правила, не пересекать дорогу мужчинам и так далее. Грешная женщина, обидевшая животных, мужа, посторонних лиц, бывает и не в силах родить ребенка; трудные роды могут кончиться смертью родильницы. Женщина, позволившая ударить лучиной кошку, собаку, ткнуть их ногой, перед родами должна просить у обиженного животного прощения на коленях, со слезами на глазах, называя его нежными именами. Женщина, обидевшая мужа или посторонних лиц, должна у них просить прощения на коленях.
Пермяцкое мировоззрение не допускает восхваления какого бы то ни было, как в глаза, так и за глаза. При восхвалении вырабатывается особая зараза, вредная для восхваляемого лица, слушателей и самого хвалящего. Лицо восхваляемое теряет все те особенности, за которые его хвалят. Слушатель и хвалитель теряют часть своего здоровья, силы, способностей. Не полагается также, по воззрениям пермяков, называть человека жалким, несчастным. Лицо, позволившее так оскорбить себя, пострадает так или иначе – заболеет, потеряет способности. Но он может удачным ответом предохранить себя от несчастия и перенести его на неуместно сердобольного человека. Особенно вредны, по воззрению пермяков, неумеренный восторг, удивление, которые могут исходить от ничтожных существ.
Заразными являются и выделения человека. Поэтому пермяк в лесу зарывает свои выделения, покрывает их землей. Избегает также пермяк производить выделения по близости рек, ключей, озер, нивы с ребенком, хлебом или молоком на руках. Несоблюдение одного из этих правил вызывает нежелательные явления, как например, болезнь ребенка, ухудшение качества урожая. Вода же, как высшее существо, не заражается нечистотами, но она сама наказывает дерзкого оскорбителя. В природе, по воззрениям пермяков, имеется несколько средств, предохраняющих человека от некоторых видов заразы. Первое место среди них занимает вода, культ которой среди пермяков сильно развит. Весной, по вскрытии реки, пермяк приносит в жертву ей кусочек сыра, крошку хлеба, то же он дает и ключам. При возведении нового дома пермяк старается построить его поближе к воде, хотя бы на один вершок, чем стоял старый его дом. Новобрачные после свадебных обрядов тоже одаряют воду кусочками хлеба и сыра. Пермяки почитают и самую стихию воды, которая не приняла еще определенного образа. Представление пермяков о водяном сводится к звериному существу с человеческими, женскими волосами. Водяные развились по воззрениям пермяков из стоячей «мертвой», воды, обладающей уже заразными свойствами, и сами они являются нечистыми.
Кроме воды, пермяки приписывают очищающее свойство соли (предохраняющей от гниения) и можжевельнику, который сгорая уничтожает дурной запах, причину и последствие болезней. Почитается также лес, благотворный воздух которого влияет благодетельно на здоровье и умиротворяет душу. С лесом связано почитание лесного царя «Вќр Айка». Ему пермяки приносят в дар хлеб, пирог с рыбой, табак, иногда и водку. Все это несется в лес и кладется на пень в надежде, что лесной царь, дядя леса, увидит угощение и возьмет его себе. Этому лесному царю пермяки пишут даже прошение на бересте углем или на дощечке, делая вырезки ножом или топором. В лесу, по верованиям пермяков, обитают человекоподобные существа, занимающиеся, главным образом, охотой и живущие как и люди, семьями. У них есть старшой «большак», лесной дядюшка, лесной царь «Вќр Айка», благонравный седой старик. Молодежь у леших отличается теми же свойствами, что и у людей, любит шалости, проказы. Часто они загоняют корову пермяка в лес, в болото. И вот пермяк жалуется на эти проказы леших, лесному дядюшке.
В доме, по верованиям пермяков, живет «суседко», заботящийся о счастье дома. Он не требует от пермяка ничего кроме тихой, мирной жизни. В некоторых деревнях пермяки верят в существование кикиморы, прожорливого существа, которое поселяется в доме, где царит вражда, и там оно питается хлебом. Это верование однако не древнее и обязано, вероятно, чуждому влиянию.
Пермяки имеют довольно отчетливое представление о загробной жизни. После смерти человек продолжает на том свете вести земную жизнь. Он уносит туда все свои духовные и физические особенности и потребности. Для удовлетворения покойника живые снабжают его предметами первой необходимости. Ему кладут в гроб лишнюю пару белья, лаптей, шапочку, деревянный ножик для плетения лаптей. Его поминают во время еды, питья, веря, что таинственно присутствующий покойник разделяет их трапезу. Душа покойника живет в гробу вместе с телом, помещаясь в черепе. Она может оттуда выходить и принимать тот телесный образ, каким владел умерший при жизни. Некоторые пермяки до сих пор вешают на надгробных памятниках, жердях, столбах, заменяющих кресты, лоскутки холста, полотенца, которыми покойник мог бы утром вставши и умывшись, вытереть лицо, руки. Кладбища пермяков устраиваются на веселом, живописном, преимущественно холмистом месте, откуда открывается вид на поля, луга, селения. Усопший не прерывает связи с землей, он постоянно заботится об оставшихся в живых родственниках, об их благосостоянии и семейном счастье. Пермяцкому мировоззрению чуждо представление о рае, как месте блаженства, и об аде, как месте мучений. Человек, совершивший много добрых дел, уносит в загробный мир доброе сердце и получает большую силу творить добро живым. Злой человек и на том свете строит козни врагам своим, стремится нанести им вред. Но он не в силах этого сделать, ему мешают добрые усопшие, которые часто загоняют его в болото. Поминками, добрым отношением живые могут умиротворить его злое сердце, после чего он оставляет свои злые намерения и перестает мучиться. Смерть детей пермяки склонны объяснять вмешательством усопших. Но они стараются уверить как умершего ребенка, так и остальных покойников, что они очень огорчены смертью своего ребенка и вовсе не желали ее. В доказательство этого они стараются взять на воспитание чужого ребенка такого же возраста и пола и заботятся о нем со вниманием и любовью.
В некоторых пермяцких деревнях уцелели до сих пор женщины черешванки, занимающиеся угадыванием воли и желания усопших, а также и некоторых христианских святых. К черешванкам обращаются страдающие какой-нибудь сравнительно невинной болезнью, которую, как они думают, послал на них кто-либо из усопших, желая напомнить ему о требуемых им поминках. Задачей черешванки является узнать имя усопшего и род требуемых поминок. Для этой цели она привешивает топор на веревочке и произносит ряд имен усопших. При чьем имени топор зашевелится, в память того и надо устроить поминки. Такое гадание является пережитком шаманства, которое у пермяков вылилось в оригинальную форму. Требовательность усопших была перенесена и на христианских святых, которые только вместо поминок требуют себе свечей и молебствия. Интересно жертвоприношение пермяков, бывающее восемнадцатого августа в день святых Флора и Лавра, в селе Коча Чердынского уезда. В этот день пермяки, предварительно вымывшись в бане и надев чистое белье, шляпу, новые лапти, колют несколько быков, пожертвованных для этой цели. Некоторые части животных раздаются местной администрации, другие духовенству, а остальные съедаются присутствующими и отдаются нищим, а остатки собакам. В этом празднике думали видеть пережиток кровавых жертвоприношений, бывших во времена язычества. Но идею кровавых жертвоприношений трудно связать с древним дохристианским мировоззрением пермяков и зырян. Ни у тех, ни у других нет божества, которое требовало бы в жертву животных, нуждалось в пище, было бы покровителем животных. Это празднество следует скорее считать пережитком общественных угощений, подобные которым сохранились кое-где и теперь.
О семейном быте пермяков были высказаны совершенно необоснованные мнения. Основываясь на данных языка, на терминологии родственных отношений, некоторые ученые высказали предположение, что пермяки некогда не знали индивидуального брака, и жили в так называемом общем или групповом браке. Но такая гипотеза совершенно необоснованна и объясняется только незнакомством со свойствами пермяцкого и вообще финских языков. Некоторая половая свобода между молодыми людьми существует, правда, у пермяков и теперь, но она не имеет ничего общего с распущенностью нравов. Связь происходит обычно с одним лицом и, за редким исключением, кончается браком.
Женщина у пермяков пользуется вообще в общественной жизни всеми правами мужчин: она является на сход и принимает участие в его решениях, хотя по закону она может присутствовать на сходе только по доверенности от мужа или отца. Дочери и сыновья пермяков пользуются одинаковыми правами и по наследованию. Фактически самым законным наследником является сын, оставшийся при отце, обычно младший, или незамужняя дочь при отделившихся от отца братьях. Такой наследник получает не только свой пай, но и все имущество родителей, Женщины, однако, не наследуют имущества своей свекрови, прямыми наследниками которой являются непосредственно ее дочери, хотя бы и замужние.
Вдова, даже не имеющая детей, наследует все имущество своего покойного мужа, если она в его доме. Она может вступить в новый брак, но обязана взять нового мужа в дом, то есть в дом своего покойного мужа, а сама не имеет права переселяться в дом своего второго мужа. Если же она переселится, то теряет право на наследство покойного мужа. Муж после смерти жены не наследует ее полного имущества, если после нее не осталось детей; он имеет право только на постель, подушки, полог, что связано с религиозными понятиями. Покойная жена может навещать вдовца по ночам, следовательно и сама может нуждаться в постели. Новая жена вдовца никаким образом не может пользоваться постелью умершей, а если нарушит это правило, то неизбежно должна умереть.
Землепользование и землевладение у пермяков почти совсем не изучены; некоторые сведения в этом отношении имеются только об иньвенских пермяках. Здесь община не успела еще развиться и только начинает складываться. Возможно, что это было результатом долгой крепостной зависимости. Как ни не тяжел был для иньвенских пермяков гнет крепостного права, они пользовались все-таки земельным простором. Граф Строганов позволял своим крепостным повсеместную расчистку леса для пожен и пашен; не преследовалась даже вырубка строевого леса. По освобождении же от крепостной зависимости иньвенские пермяки утратили значительную часть своих земельных угодий. Особенно сильно пострадали мелкие общества и отдельные домохозяева, владевшие дальними угодьями. Получилось, таким образом, неравномерное распределение земли. Население старалось найти выход из такого положения, но технику разверстания земли не в силах было выработать. Дело кончилось тем, что многоземельные отдали часть своих угодий малоземельным. Мелкие земельные общины, стремившиеся слиться с другими более крупными и многоземельными, потерпели полную неудачу. Пробовали распределить заново наличность ревизских душ по отдельным домохозяевам и по ней произвести разверстку земель. Но при этом не были приняты во внимание почвенные условия; у некоторых участки оказались на холмах, на склонах, у других на низменных местах. На холмах хороший урожай бывал в более прохладное и дождливое лето, на низких местах в более жаркое. Через три года крестьяне одумались и снова вернулись к обработке своих прежних участков. Так и кончился неудачный «перемер» в некоторых обществах Кудымкарской волости.
Пермяки отличаются вообще солидарностью, дружным отстаиванием своих интересов. Сельская выборная администрация не злоупотребляет доверием своих односельчан, по крайней мере, не слышно на нее жалоб. Пермяки домовиты, любят свое хозяйство, свою родину и о переселении и слышать не хотят, смотрят на него как на ссылку. Они проявляют некоторое отрицательное отношение к своим собратьям зырянам за их любовь к отхожим промыслам. Пермяки скромны, на вид застенчивы, но это не мешает им держаться с чувством собственного достоинства. Они любят просвещение и возлагают на него большие надежды; крестьяне – Кудымкарской волости, несмотря на свою относительную бедность, все же ассигновали значительную сумму, около восемнадцати тысяч рублей для сооружения здания и оборудования городского училища по положению тысяча восемьсот семьдесят второго года.
Свою положительность пермяки проявили и в политические моменты. В тысяча девятьсот пятом году агитаторам удалось их убедить, что земли, принадлежащие графу Строганову, отданы в пользование народу, и что правительством разрешена на три года бесконтрольная вырубка леса для крестьянских нужд. Местная администрация растерялась, лесная стража и мелкие служащие сами разделяли общее убеждение. Только лесные смотрители пытались противиться самовольным порубкам. Казалось, что при таких обстоятельствах пермяки могли бы проявить враждебные отношения к нелюбимым им смотрителям и другим начальникам. Но они держали себя вполне корректно и провели только пассивный бойкот, не стали привозить начальству дров, воду, что они делали раньше, а равно возобновили и после тысяча девятьсот пятого года.
Умственные способности пермяков не хуже, чем у других народностей. Ученики в школах обличаются способностью, прилежанием и вниманием. Учащиеся в средних школах идут часто в числе лучших учеников. По окончании учительского семинария они продолжают большей частью заниматься самообразованием и проявляют живой интерес к окружающей жизни.
Пермяки очень гостеприимны. По верованию пермяков, хлеб и трава родятся не только для него и его семьи, но и для гостей и проезжающих. Брать деньги с проезжающего все равно, что его обворовать. Нищенство среди пермяков не развито. Больные у пермяков пользуются особым вниманием.
Большинство пермяков отличается низким ростом и короткими ногами. Глаза у них чаще серые, волосы светло-русые, иногда рыжеватые, но встречаются и темно-русые субъекты с серыми или карими глазами, даже черноволосые. Преобладающий темперамент флегматичный, что дает их русским соседям повод подшучивать над ними. Некоторые духовные особенности иньвенских пермяков объясняются долго тяготевшим над ними крепостным правом. Старики-пермяки, испытавшие на себе крепостной быт, рисуют его мрачными красками. С каждого дома один мужчина должен был работать на сенокосе у помещика. Домой его не отпускали; родные отправляли ему пищу через десятских и сотских. По окончании сенокоса давался отпуск на один вечер помыться в бане. На другой день его отправляли на Кушвинский завод, где он должен был работать сто дней, получая три копейки в день. Но перед отправлением на завод ему в волостном правлении давали десять ударов розгами. По прибытии на завод эту порцию повторяли. На заводе обращались вообще скверно: за большие проступки били батогами. Если у крестьянина было два взрослых сына, то второй сын должен был работать на заводе тридцать пять дней. В доме, где не было вовсе мужчин, наравне с мужчинами должны были работать женщины. От тяжелой работы померло много народу. При крепостном праве пермяки не могли научиться интенсивному хозяйству, ни каким-либо земельным улучшениям, не привыкли они и экономить лес. По освобождении же они попали в совершенно иные условия. Строевого леса и топлива у них не оказалось. За пользование им нужно было платить большие суммы, непосильные для пермяка при получаемой им низкой заработной плате. Значительная часть пожен перешла, как выражаются пермяки, «за грань», то есть совсем отошла от них. Известную часть пожен давали им в аренду на небольшие сроки, другую не позволяли арендовать. Уменьшение количества пожен вызвало уменьшение скота и удобрения, без которого пашни в Иньвенском крае плохо родят хлеба. Часть пашен вследствие того была запущена и образовались пустые земли, «отдыхающие», известные в народе под названием «шутим». За последние пятьдесят лет скотоводства и земледелие у иньвенских пермяков значительно уменьшились, прирост же населения увеличился, между тем другие отрасли хозяйства не успели развиться. Правда, заработки на заводах увеличились, но эти заработки не идут на увеличение питания семьи пермяка, а целиком уходят на покупки билетов на дрова, строевой лес, затем – на мелкие расходы. Кое-где пермяки теперь начинают усиленно заниматься огородничеством.
Земельные угодья, как уже было сказано, далеко не равномерно распределены теперь между отдельными обществами и лицами. Крестьяне села Архангельска, например, обладают хорошими заливными лугами, расположенными по берегам рек Велвы и Иньвы, и потому все достаточно зажиточны. Есть и еще ряд сел, экономическое благосостояние которых следует признать удовлетворительным, даже довольно хорошим. Но многие мелкие крестьянские общества находятся совсем в захудалом состоянии.
Особенно на краю гибели стоят деревни в пять-десять дворов, расположенные на далеком расстоянии от больших сел, особняком, в лесу. В каких-нибудь тридцати саженях начинается здесь уже густой помещичий лес, окружающий деревню. Хлеба здесь не созревают, обитатели леса медведи то и дело нападают на домашний скот. Житель такой деревни находится в безвыходном положении. Арендовать он ничего ни у кого не может – лесные пространства графов Строгановых не сдаются в аренду. Некоторые общества могут, впрочем, арендовать пожни у графа, получая за работу половину сена, и это поддерживает их существование. Но далеко не все крестьяне имеют возможность арендовать пожни. Более строптивым, провинившимся крестьянам отказывают в аренде, и пожни, арендовавшиеся ими раньше, сдают крестьянам других деревень, торговцам и разным разночинцам; охотно цепляются за пожни и мелкослужащие графа Строганова.

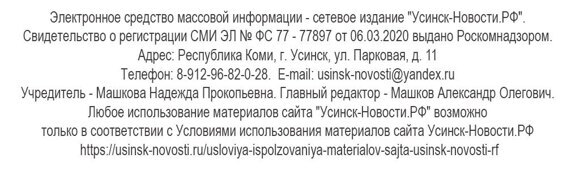
 Создание сайтов
Создание сайтов